
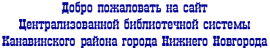
Поездка в Елабугу
"Ещё известно, что седой пришелец
губами прикоснулся к грязи
и выбрался на берег, не раздвигая камни
(возможно, их не чувствуя),
хотя они впивались в тело,
и дотащился - весь в крови,
качаясь, до круглого пространства,
увенчанного каменной фигурой
- тигром или лошадью когда-то
огненного цвета, а ныне цвета пепла.
Этот круг был раньше храмом, но его выжгли
давние пожары, его сгубила гнилостная сельва,
а бог его не почитается людьми.
И чужеземец лёг у пьедестала."
(Хорхе Луис Борхес, «Круги руин»)
Альберт Васильевич Лыков заведовал министерским отделом подготовки кадров. Рано или поздно каждый находит свою "производственную нишу", нашёл свою и Лыков. После неудачной, предпринятой в молодые годы попытки "пробиться в науку" посредством изготовления диссертации Лыков навсегда оставил эту обременительную на его взгляд, а главное нимало не вдохновляющую затею и, трезво взвесив обстоятельства момента, решил отдать свои силы не по дням, а по часам растущему аппарату управления. То был во время оно чудесный фокус: ежегодно выполняя планы по сокращению штатов, министерство всходило, как на дрожжах, и со стороны скорее напоминало гипертрофированное больное сердце, нежели синклит дееспособных технических политиков. Трудясь в одном из отраслевых институтов, Лыков был именно таким сторонним наблюдателем. Его снедали противоречивые чувства: с одной стороны, досада на неповоротливость министерских чинов, твёрдое убеждение, что будь он на их месте - и дела пошли бы не в пример лучше, с другой же, он, по чести, завидовал - высоким окладам, некоторым известным ему тайным льготам, перспективам "роста" и вообще положению тех, кто ежеутренне поднимался по ступенькам роскошного министерского подъезда, этим "касталийцам", думал он, занятым игрой стеклянных бус. Благодаря общительному характеру, белозубой улыбке, ямочке на подбородке и голубым глазам, доверчиво устремлявшимся навстречу собеседнику из-под свисающей на лоб льняной пряди, - всем кинематографическим свойствам его наружности - но и острой наблюдательности, способности к анализу и умению располагать к себе людей без дешёвых уловок в духе Карнеги - у Альберта Васильевича там было много хороших знакомых в "среднем звене", ещё больше доверенных лиц в сословии секретарш и "рядовых исполнителей" (по преимуществу молодых женщин) и даже один настоящий товарищ, если не сказать друг, на начальственном уровне и к тому обладавший немалым влиянием на "первого зама". Проникновение в касту избранных во все времена было немыслимо без надёжных рекомендаций, не составляет исключения и наша отечественная бюрократия. Упомянутая дружба завязалась, как водится, в командировке, куда выезжал Альберт Васильевич задолго до описываемых событий, сопровождая своего будущего приятеля в качестве консультанта по вопросу внедрения "передовой технологии" на одном из удалённых восточных заводов. Прожить неделю с Альбертом Лыковым под одной кровлей значило проникнуться к нему глубокой симпатией; не остался равнодушным и "касталиец". Накануне возвращения, когда было уже изрядно выпито и от положенного пуда соли отъеден солидный кус, новый лыковский друг, бреясь в ванной, громко пробасил:
"Слушай, Алик, давай, переходи к нам." Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, они быстро перешли на "ты", и это ещё больше упростило завязавшиеся отношения. Лыков сидел на постели, зажав коленками туфлю, пытался распутать шнурок. Чего скрывать, он ждал этого предложения. "А почему бы и нет!" - так же громко прокричал в ответ, как бы не принимая всерьёз неожиданной распасовки, но когда "касталиец" вернулся в комнату - благоухающе-свежий, с хитроватой улыбкой на лице стареющего льва, он увидел своего нового молодого друга застывшим в нелепой позе с ботинком в руках и понял, что угодил в яблочко. Удобного случая долго ждать не пришлось; руководство отрасли решило укрепить отдел подготовки кадров "квалифицированными специалистами", и первым претендентом на открытую вакансию стал, разумеется, он, Альберт Лыков. Был тут ещё и дальний прицел: начальник сего набирающего силы подразделения готовился к выходу на пенсию, как говорят, досиживал, высокое начальство было им недовольно, а несомненная важность "человеческого фактора" обнаруживала себя повсюду и становилась, похоже, во главу угла министерской политики. Лыков быстро оценил обстановку, и вскоре с подачи его покровителя - как оказалось, "члена коллегии" - на стол министра тайно легла программа действий, нацеленная на вывод отрасли из углубляющегося день ото дня прорыва посредством "коренной перестройки работы с кадрами". Не лыком шит - скаламбурило "первое лицо", и в узком кругу вскоре заявило о себе мнение, что Лыков - будущий завотделом. И он действительно стал им, однако не раньше, чем предыдущий "зав" досидел своё и был с почестями отправлен "на заслуженный отдых". Для того потребовалось ни много ни мало три года и восемь месяцев. Касталийцы никогда не обижали друг друга.
К тому времени лыковская программа действий разрослась и углубилась, обретя свойства по-настоящему серьёзного документа, который готовился быть введённым в действие если и не самым высоким постановлением, то по меньшей мере - министерским приказом. Сам Альберт Васильевич преобразился незаметно для себя. Известно, что личность - это деятельность. Становясь лидером, человек словно открывает в своей душе потайную заслонку и выпускает на волю некоего джинна, чей характер до поры неизвестен и одинаково может оказаться принадлежащим тирану или миротворцу. Лыков не стал ни тем, ни другим; он быстро понял, что "игра в бисер", каковой услаждали себя руководители его ранга, требует навыков больше дипломатических и вообще проецируется вовне расплывчатым и к тому недодержанным негативом, никак не влияя на общий ход вялотекущей производственной жизни. Иногда родное министерство представлялось Лыкову гигантским вибратором, отделённым от основания столь надёжным амортизирующим устройством, что даже сотой частицы ватта выделяемой мощности не проникало в почву. Призрачный мир, где никому ничего не принадлежит, жил по своим законам, таким же фундаментальным, как законы всемирного тяготения, наследственности или психики человеческой. И главным, как быстро понял сообразительный Лыков, - а до того он просто не задумывался над подобной проблемой, - главной разрушительной силой и повелительницей всего в этом царстве упадка было отчуждение труда. Не успев расправить плечи, облечённые высоким доверием и - в меру - властью, Лыков почувствовал, как они сгибаются под тяжестью навалившегося знания, и ощутил горечь, источаемую недавно ещё милой его сердцу "кадровой программой". "Человеческий фактор", столь эффективно используемый во всём мире для повышения производительности труда, оставался для лыковского "управляющего звена" за семью печатями, а все идеи, питавшие введенный вскоре в действие документ, постепенно осыпались, не оставляя завязи. Лыков метался по стране, переезжая с завода на завод, меняя средства передвижения и страны света, и везде сталкивался с одним и тем же: апатия руководства, глухое недовольство рабочих, паралич снабжения, разваленный быт.
В конце мая восемьдесят девятого года заботы о нарождающемся "народном автомобиле" привели его в Елабугу. Завод переживал трудное время "перепрофилирования"; всё было полно неопределённости и благих помыслов. Весна разливала в воздухе смутное волнение, во всём живом накапливала энергию порыва, и Лыков ощутил вдруг какой-то беспричинный - благовестом - прилив счастья, нахлынувшего поверх всего: ни шатко ни валко идущих дел, воспоминаний о министерской суете, утомительного двухсуточного поезда, столоверчения с камазовской властью, переполненного автобуса "Набережные челны - Елабуга". Будто свет забрезжил сквозь оседающую кровавую муть афганской войны. Будто заструился под спудом лжи, однообразия, ничтожности, ненужности жизни ручеёк воскресшей надежды. Возможно - и даже наверняка - тёмная половина диптиха, который был бы способен представить картину сего душевного состояния, была следствием усталости и недосыпания, но основа была в ней не менее представительна и складывалась она годами, и звалась - одиночеством. В свои сорок лет Лыков был холост, бездетен, разочарован в любви, жил со старушкой-мамой и всё меньше питал иллюзий относительно того, что встретит, говоря его же словами, "человека, к которому мог бы по-настоящему привязаться". Брак, полагал он, это или великое счастье или великое несчастье. Друзья с готовностью соглашались со второй частью афоризма и скептически улыбались по поводу первой. Но ведь известно всем, что нет на свете людей более нечувствительных к чужому мнению, чем старые холостяки. И Лыков продолжал верить - и не верить. Будучи взращён семьёй и школой как убеждённый атеист, он был до удивления похож на человека религиозного, который верит в божественное провидение, однако, не надеясь особенно, что милость божья снизойдёт на его ничем не примечательную персону. Чувство, которое испытал Альберт Васильевич, сойдя с автобуса в Новом Квартале города Елабуги, - а пришло оно именно в тот момент, когда нога его коснулась земли, то бишь асфальта, и нарастало всё время, что стоял он, оглядываясь по сторонам и вдыхая майский размягчённый ветерок, налетавший с отверстого в розоватую небесно-полевую даль конца улицы, обрывающейся там двумя абсолютно одинаковыми, симметричными, но, как показалось ему, отнюдь не унылыми девятиэтажками, - это чувство было сродни религиозному экстазу. Оно не было для Лыкова чем-то незнакомым; напротив, он хорошо его знал, как знаешь, например, испытав однажды, чувство жалости или гнева, или уныния, знаешь памятью разума, но ведь не можешь по желанию вспомнить так, как вспоминают, предположим, стихи, пробираясь от строчки к строчке, как нащупывают на клавишах мелодию, вслушиваясь в звучание каждой угаданной ноты и без оглядки убегая от фальши, одним словом, не можешь повторить, лишь сообразуясь с обстоятельствами и собственной прихотью. Памяти чувств, как известно, не существует. И Альберт Лыков, разумеется, это знал. Но знал и нечто другое: как сотни и тысячи мелочей из окружающего тебя в данную минуту набора, именуемого бытом, а то и более точно - бытием твоим, - эти тысячи маленьких камертонов в любую, самую неожиданную минуту могут разбудить в душе - и, что там говорить, даже один из них может заставить вдруг мощно зазвучать орган, устроенный в тебе столь необычно, что один лишь слабый, едва различимый во всеобщем комарином жужжании звук обрушивает целую симфонию, затопляющую всё вокруг от земли до неба. Альберт Васильевич был, несомненно, тонко чувствующей натурой.
Иногда можно было догадаться или, по меньшей мере, предположить нечто, явившееся вдруг таким камертоном, но, в общем-то, в этом никогда не было особой надобности, и только досуг или чисто научное любопытство (Лыков понемногу - в дань моде - практиковал парапсихологию) временами побуждали его к подобным поискам. Но теперь, стоя посреди широкой и при ближайшем рассмотрении всё же унылой улицы, как унылы большинство новостроек-улиц нашей страны, как уныла сама страна (а он имел возможность убедиться в этом печальном обстоятельстве) Альберт Васильевич уж никак не мог бы, по его мнению, найти тот фактор, который, коснувшись обоняния, зрения или слуха в момент схождения с подножки автобуса, с такой необыкновенной силой заставил зазвучать музыку - так он называл это, хотя никогда то не была доподлинно музыка - мелодия или аккорд, или даже отдельная нота, которые часто привязываются в самое неподходящее время, - разумеется, музыку, ибо как назовёшь иначе вихрь, подхвативший тебя, поднявший над миром и наполнивший ощущением бессмертия?
Вот что было его верой! Сейчас он вдруг осознал это с поразительной ясностью: постоянная готовность к такому, постоянное ожидание и радостное, едва ли не чувственное наслаждение им - пришедшим.
Конечно, были возможные причины: во-первых, напоённый весенними ароматами ветерок, и то, что дул он устойчиво с северо-запада, а, предположим, не с юга, насылавшего на город гарь и "химию" с нижнекамских нефтяных и шинных гигантов; во-вторых, необыкновенный сиреневый цвет неба, в-третьих, в общем-то, удачно улаженные на "Камазе" дела, и ещё - тишина, безлюдье, отсутствие какого-либо транспорта на этой странной, больше похожей на площадь улице, одним концом впадающей в совершенную пространственную открытость, а другим уходящую вниз, в деревянную Елабугу, окаймлённую на заднем плане лесистыми холмами и прячущую под боком холодную Каму. Будущий автогигант прорастал в молчаливом спокойствии и невозмутимости.
Лыков двинулся к дому с номером тринадцать, сразу выделив его в ряду домов на противоположной стороне улицы - по намалёванным прямо на стене жирно-коричневым цифрам - возможно, для приезжающих. Ему всегда везло на это число, и теперь оно как бы укрепляло ещё больше снизошедшую внезапно радостную приподнятость и вполне могло бы быть принято как знамение чего-то значительного, только и ждущего своего часа, чтобы выйти из-за угла. Вероятно, вслед за своим тяготеющим к небу настроением Лыков скользнул вверх по этажам рассеянным взглядом и тогда увидел там, где обрывалась стена и где положено быть крыше или хотя бы карнизу, однако не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз, - увидел над этим геометрически безукоризненным обрывом ажурную вязь небольшой неоновой конструкции и, будто в игре "найди охотника", не без труда рассмотрел в завитушках и вензелях претенциозную вывеску: «Гостиница Елаз".
Ах, как хорошо знал он эти русские постоялые дворы! Лыков усмехнулся: у путешествующего по России быстро складывается образ провинциальной гостиницы, и того паче - гостиницы ведомственной, что устроена с единственной целью - общежития толкачей, пусковиков, заказчиков, наладчиков и прочего подобного люда, который сотнями тысяч мечется по стране, гальванизируя засыпающее от нехваток производство, спасая "горящие" планы, требуя выполнения договорных обязательств, угрожая санкциями, соблазняя подарками, из коих наиболее действенным является, без сомнения, этиловый спирт. Лыков не был пьяницей, и не был даже особенным любителем спиртного, но и он с мая восемьдесят пятого - от рождения пресловутого "указа" - возил с собой по командировкам плоскую титановую литровую флягу с герметичной пробкой и слегка закруглённым в разрезе профилем - по окатам тела. Впрочем, заливал он её чаще коньяком, нежели спиртом. Это тема особого рассказа - но как облегчает сие немудрёное приспособление жизнь в пределах отечества, именуемых глубинкой! И сколько шума производит в гостиничных коридорах!
Наперёд зная, что таковых нет, Лыков осведомился об отдельных номерах. Место им было забронировано; как всегда не сразу, а в результате небольшого препирательства с дамой-администратором, заявку нашли, и после обычных манипуляций с паспортом, "карточкой приезжающего" и квитанциями предварительной оплаты (в этом месте Лыков шутил обычно - "а то сбегу", пошутил и теперь, но не мрачно, с искренней весёлостью, что заставило администраторшу криво усмехнуться; она в общем-то была достаточно молода и миловидна, лыковский намётанный глаз отличил в её лице плотоядность - черту неотразимую для путешествующих в одиночку мужчин; лыковская рука протянулась к её холёной, с жемчужными ноготками ручке, на секунду накрыла её и тотчас отпрянула виновато, будто маленький тот инцидент явился результатом душевного порыва - а так оно и было, в сущности, - естественным знаком благодарности и необязывающим предложением будущего союза; в искусстве общения такого рода Альберт Васильевич не знал себе равных) - после всей этой полуформальной процедуры он был отправлен в отдельную двухкомнатную квартиру на четвёртом этаже в напутствии улыбки совсем уж другого сорта и с обещанием "никого не подселять". Ни о чём другом Лыков и не мечтал.
Лучший вид туризма - служебный. Кто путешествовал с командировочным удостоверением в кармане и оплаченными проездными, тот знает всю меру удовольствия, вообще доставляемого тем, что человек перемещается в пространстве, созерцая, и в то же время не уподобляется зеваке-бездельнику, а имеет чёткое деловое задание и таким образом находится как бы "при исполнении". Задание может быть и не выполнено, однако вояж состоялся, впечатления теснят одно другое, а к тому и бюджет семьи не пострадал, и всем подарки и сувениры из дальних мест и куча рассказов. Конечно, суточные могли бы быть и побольше, но, как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок; впрочем, для заграничных туров эта невзрачная овечка заметно преображается, становится довольно упитанной и позволяет настричь шерсти не в пример больше, чем пасясь на родных истощённых землях.
Право, нет в этом ничего зазорного, не бог весть куда путешествуем, да и дела-то делаем ведь не хуже, оттого что попутно заезжаем, заходим, забегаем в пару-тройку интересных мест и подпитываем души информацией эстетического свойства. Ну, а если уж приспичило завернуть куда-то на денёк-другой, из Архангельска, например, на Соловки сгонять, или из Ташкента - в Бухару, из Владимира - в Суздаль, тут извольте раскошелиться, бухгалтера народ строгий, только "туда-обратно" и в срок, а как ты там вертелся внутри этого срока, им дела нет. Прямо сказать, одним из министерских соблазнов и утончённых привилегий для Альберта Васильевича в пору его "институтского" периода жизни было вот это известное всем качество аппаратной деятельности - возможность путешествовать по стране и даже за пределами её с благословения казны.
Нет, и всё-таки на первом месте у Лыкова всегда оставалось дело. А что до "культурничества" (так называла мама Альберта его увлечение местными достопримечательностями), то здесь, в сущности, и не надо было ничего-то из обретать - всякому ясно: Союз наш - это музей под открытым небом. Конечно, и Прага, и София (две зарубежные командировки уже пополнили лыковский реестр) - музеи тож, но когда в них ещё и столько магазинов, торгующих столь соблазнительными для восточного человека вещами, то музейные ценности как-то блекнут, душа как бы то не отворачивается от них, но теряет в своей чувствительности, странным образом сужается, а когда истрачивается валюта, чувствует себя такой усталой и опустошённой, что впору только лететь обратно, в родные необозримые дали, где ничто не отвлекает от созерцательного - поистине, православного - образа жизни.
Другое дело, что Елабуга с её многострадальным заводом (и не на месте-то основанным, этаким метастазом камазовской "опухоли", сулящим повторение челнинских бед - бездомья, безнадёжности, преступности - всего того, что неизменно приходит вслед, если города пристраивают к "производствам", а не ставят их на торговых путях) - Елабуга вполне могла бы обойтись и без Лыкова. Какой же прок читать лекции о "человеческом факторе" там, где этого самого фактора ещё и не нюхали, зато плачут от недостатка обыкновенного цемента, стальных труб и прочих "фондов"? Лыковская программа "управления трудовыми ресурсами отрасли", прямо скажем, была мертва от рождения, а теперь, с грустью думал Альберт Васильевич, и вовсе остался один только раскрашенный панцирь - министерский "приказ". Поэтому в город Елабугу Альберта Лыкова привела отнюдь не необходимость, а вполне понятное для поборника отечественной культуры желание преклонить колена перед могилой великого поэта.
Альберт Васильевич и сам понемногу сочинял, проще сказать - рифмовал, довольно бойко, прям-таки разговаривать мог четырёхстопным ямбом, и даже некоторые вирши свои - на взгляд, неплохо удавшиеся - заносил в книжечку записную; но чаще писал по случаю – поздравления, или эпиграммы, или пародии, - и, по прошествии времени перечитав и убедившись: не то, выбрасывал безо всякого сожаления. Что-то оставалось, конечно, по-настоящему выстраданное, но поскольку страдать Альберт не любил, а более стремился к новым впечатлениям, то и стихов стоящих, которые прочитать не стыдно, едва ли набралось бы у него десятка два. Поддавшись минутной слабости, он однажды понёс их в молодёжный журнал, угодил там на литспеца-консультанта по фамилии Коркин и через полчаса ушёл, совершеннейшим образом опозоренный.
Верней было с сочинениями чужими. Обладая блестящей памятью и не имея собственноручного материала для её заполнения, Лыков запоминал стихи: с одного-двух прочтений мог уложить в себе на вечное хранение целую поэму и потом по желанию выбирать особенно яркие куски, выносить "на слух" и, полюбовавшись - или дав полюбоваться другим, снова прятать в своей безграничной кладовой. А если уж находился благодарный слушатель, то можно было устроить настоящий пир с яствами на любой вкус и "драгоценными винами". Конечно, и здесь увядало то, что не выдерживало испытания временем, и, увянув, постепенно выветривалось. А другое, наоборот, как бы открывало в себе новые смыслы, загоралось новыми красками и не только не умирало, но, против того, набирало энергии, как если бы само время преобразовывалось в неё по законам "несимметричной механики". Будучи склонным к теоретизированию, Альберт Васильевич не раз спрашивал себя, отчего это происходит, и постепенно пришёл к выводу, что главный здесь фактор - личность поэта. А придя к таковому пониманию, почёл важным для себя посещение мест, известных в истории отечественной словесности своим влиянием на судьбы творцов. Так попала - теперь уже по другой причине - печально известная Елабуга в круг интересов Альберта Лыкова. Как ни говори, а чтобы склонить человека к самоубийству (или стать каплей, переполнившей чашу), надо-таки оказать немаленькое давление. Воистину несчастна страна, в которой убивают поэтов или они убивают самих себя! Альберт Васильевич много думал об этом, ибо вопреки распространённому мнению о хрупкости поэтической души, по собственному опыту знал, что нет надёжней брони от жизненных невзгод, чем сочинительство, переводящее страдания в действие, а то, в свою очередь, имеющее результатом нечто подлежащее любованию. Терпя неудачи в любви (а случалось и такое), Альберт сочинял стихи и тем спасался от боли, которая в противном случае грозила быть невыносимой. Он знал и больше того: что творческий дух питается страданием, как пчела нектаром, переплавляя его в себе и в этой работе черпая силы для поддержания собственной жизни. Возможно, страдая больше, чем отпустила ему судьба, он и стал бы настоящим поэтом. Но... он был, увы! простым инженером, любящим жизнь больше поэзии или, сказать точнее, любящим поэзию жизни и всячески бегущим жизненных неурядиц. И всё же он снова и снова возвращался к мысли: какова мера страдания, что может столкнуть в бездну даже поэта? И всякий раз со страхом отпрянывал, как будто сам заглянул в неё.
Был уже первый час, когда Альберт Васильевич поднялся в номер; на заводе время обеденных перерывов, и торопиться туда теперь не имело смысла. Оно и вообще не имело смысла - мозолить глаза заводским руководителям, рассказывать им байки о человеческом факторе и самому выслушивать жалобы, делать сочувственное лицо и обещать "помочь". Какая зловещая безысходность царит на стройке, когда она уже начата, проглотила сотню-две миллионов и вдруг (вдруг?) обнаружила свою полную бесперспективность, а то и явно чинимый вред. Хочется бежать от неё без оглядки, как от чумы, но куда бежать? Не отбежишь и до угла, как тут же наткнёшься на другую такую же. Сколько он повидал уже "строек века", оказавшихся на поверку "памятниками безвременья"! Теперь вот эта (Лыков подошёл к окну) растеклась масляным чёрным пятном на светло-зелёной карте елабужского окоёма, припала жадными губами к реке и пьёт из неё, ей же возвращая забранное - фекалиями. А уж когда задышит в полную силу, добавляя к миазмам "нижнекамских гигантов" свои собственные выбросы, - тогда прощай, красота, прощайте, холмы с нахлобученными на добрые глаза еловыми шапками, прощай, луговое закамье, - тебя непременно зальют, - ведь где-то там, внизу, растёт ещё один "энергогигант", призванный питать пригретого вами молодого монстра. Да, совсем был бы хорош служебный туризм, если б не такие вот на каждом шагу "достопримечательности". Как ни закаляй душу, а рвётся она в иные пределы и тоскует, тоскует...
Да что ж тосковать? Толку-то? Номер понравился Лыкову - чисто, тепло. Гостиная, спальня с двумя деревянными кроватями (при необходимости можно сдвинуть - но это невзначай он подумал, между прочим); особенно хороша была кухня - с газовой плитой, холодильником и полным набором посуды. Служебный туризм обязывает самого заботиться о пропитании: Альберт Васильевич всегда имел с собой сахар, чай, понемногу всякой крупы, покупал только хлеб, а если было - то и чего-нибудь молочное, для каши или просто так. Ещё он возил с собой маленькую электрическую плитку, которая вкладывалась в низкую кастрюльку с крышкой, и немудрящий сей агрегат служил верой и правдой, кормя и поя с вегетарианским разнообразием. Впрочем, если приходилось где-то застревать надолго, то не представляло сложности и более изысканное варево: куриная лапша, например, или грибной суп, или картофельное пюре. Единственная забота - не забыть спрятать "кухонный агрегат" от пронырливых глаз гостиничной обслуги, блюдущей пожарную безопасность. Однажды кипятильник-таки отняли, нечестивцы! А здесь хорошо, плита, и всё по закону, с удовлетворением подумал Альберт Васильевич (будучи во всём другом законопослушным гражданином), поставил на огонь чайник, вынул оставшиеся от завтрака полбуханки любимого им "серого" и приготовился сварить "суп вермишелевый с мясом" из пакета, купленного по случаю в Набережных Челнах (из дома не удосужился захватить, а в глубинке не всегда бывает).
Подумал, не выпить ли стопочку перед обедом - да с устатку - "молдавского", и не выпил. А почему - и сам не знал. Наслаждался горячим перченым варевом, крепким чаем, и даже прилёг в спальне прямо поверх постельного покрывала, только выпростав из-под него пухлую, пенно взбитую подушку. Погрузился затылком в её свежую белизну и задремал. И наверно во сне уже подумал: жизнь прекрасна, несмотря ни на что.
Будущий "автогигант" встретил Альберта Васильевича слабым шевелением отдельных членов, растущих неравномерно, вразнобой и в условиях полуголодных, - отчего произвёл впечатление угнетающее, какое мог бы произвести слабоумный ребёнок на кресле-каталке. Директор, напротив, показался человеком весёлым, общительным, то, что называют лёгкого нрава и, вероятно, ввиду перманентности развала в своём хозяйстве воспринимал его философически и даже с юмором. Почтения к "штабу отрасли", как видно, не испытывал и спросил прямо на пороге: "Чего приехал?" (Секретарша доложила: из министерства.) Не успевши и рта раскрыть, Лыков смутился от такой невежливости, но добродушная улыбка на лице хозяина кабинета, человека уже немолодого, наверняка битого, перемятого в ржавых шестернях социалистической индустрии, заставила отбросить притворство (даже с каким-то болезненным удовлетворением отодрать от лица привычную "хорошую мину") и ответить столь же искренне: "Да так просто, посмотреть". Несколько позже, после того как директор не удержался-таки и поведал печальную историю-"елазиаду", oн добавил, что "кстати хотел бы ознакомиться с ходом выполнения триста пятнадцатого приказа и побеседовать с трудовиками". Ради бога, сказал директор. Он вышел из-за стола проводить гостя и уже у самой двери, будто спохватившись о главном деле, сказал с хитроватой весёлостью: "Мы тут, понимаете, ширпотреб наладили, детские коляски, неплохо выходит, кажется, советую посмотреть. Лучший цех!" Лыков заверил, что непременно посмотрит, они горячо пожали друг другу руки и на том расстались. Рукопожатие и улыбки сопровождены были - директор даже вышел в приёмную - коротким указанием миловидной секретарше "сделать всё, о чём попросит Альберт Васильевич, наш высокий гость". Юмор был не чужд, видимо, и юной директорской помощнице: когда начальник её скрылся в кабинете, она спросила растерявшегося Альберта: "Вы какой цвет предпочитаете - красный, синий, зелёный?" "А причём здесь?..." начал было тот и быстро - однако с опозданием, свидетельствующим о некоторой неповоротливости ума, догадавшись: речь о тех же колясках, - поторопился затушевать ненаходчивоеть грубоватой шуткой в том духе, что детей у него пока не предвиделось, но если очаровательная… тут он нарочито запнулся, ожидая подсказки, и, разумеется, немедленно получил её... очаровательная Людмилочка на этом настаивает, то он готов, и так далее, девушка была не из робких, договорились: он позвонит ей в конце рабочего дня. А коляска? Лыков сказал - синий, только она же громоздкая, как везти-то? На что получил разъяснение: в гостевом варианте легко разбирается и компактно укладывается в небольшой картонной коробке и даже с лямочками - наподобие пылесоса. Не из жадности, а просто так уж повелось теперь, чтоб не обидеть, Лыков никогда не отказывался от подарков, которые непринуждённо, а иногда и с настойчивостью преподносили им, касталийцам, подчинённые "производственники". Моральность, почти законность новоявленного обычая, пронизавшего "управленческие структуры" сверху донизу, ни у кого не вызывала сомнений, и даже слово такое - "взятка" - не содержалось в "касталийском" словаре, зато существовала определённая такса, о которой знали только, что она существует, но какова - об этом лишь можно было догадываться. Никто бы, например, не отважился перечислить дары, преподнесенные здесь же, на "Елазе", ответственным лицам "из комиссии", чтобы закрыть дело о пожаре в столярке, вкупе с "материальными ценностями" поглотившем три молодые жизни. Не коляски же, понятно. Альберт Васильевич даже засмеялся вслух, когда представил себе мамины округлившиеся глаза при виде такого подарка. Не захватить ли и Людмилочку с собой, подумал, уж больно хороша и, кажется, непрочь. И ещё, в который раз, подтвердил для себя: богата русская глубинка женской неистощимой красотой! Хотя тут же и поправился: "глубинка"-то была татарская, а посему подлежала более пристальному анализу. Вспомнил администраторшу в гостинице - чёрную бровь, горячий глаз, - и оказался будто бы на распутье. Вот так и всегда: только стукнется в сердце нечто настоящее, глядь, и с другой стороны стучат, и с третьей, и каждый по-особому стучит, со своим секретом, как не открыть, не пустить на часок хотя бы, не обидеть... Друзьям говорил не раз: каждую женщину, которую посылала ему судьба, он хоть немножечко, да любил. Может, и не женился поэтому до сих пор. О чём думал с годами всё более ностальгически, как о покинутой давно родной стороне, отдаляющейся неуклонно и без надежды на возвращение. Этакое типичное для старого холостяка переживание своего одиночества, однако не без приятности.
И только выйдя за проходную и оказавшись на главной елабужской улице, когда ход его мыслей переменился и стал опять на колею "туристическую", Альберт Васильевич подумал с сожалением, что вместо глупых шуток лучше порасспросил бы девушку, где искать и как пройти к тому дому и на кладбище, а теперь надо спрашивать, да некого, улица пуста, как вымерла, и, пожалуй, одно не вызывает сомнений - двигаться прочь из этих "новых", но таких безжизненных кварталов, туда, где лес и холмы над крышами деревенских домиков, там же, видимо, и река, и, если повезёт, хорошо бы найти то место, где Шишкин писал свою несравненную "Каму в окрестностях Елабуги", мирно дремлющую теперь в новгородской картинной галерее. Лыков, может, и не обладал высокоразвитым художественным вкусом, но чувства красоты ему было не занимать и той хорошей наивности, которая помогает искусству периодически возвращаться на круги своя, впадая в примитивизм. И он зашагал под сенью лип, высматривая в палисадничках живые души, могущие, по его мнению, помочь подсказкой в деле поисков, но, видно, все в этот послеобеденный час были заняты внутренними делами, никто не копался на грядках, не чинил, не строил и даже не сидел на лавочках под резными окошками. Несколько раз он сворачивал в боковые улочки и переулки, пока ни закружился окончательно. Два прохожих юнца, встреченные на каком-то по счёту перекрёстке, только недоумённо поморгали в ответ и, смутившись от своего незнания (или это ему только показалось?) поспешили ретироваться. Наконец он увидел то, чего искал: от крыльца почерневшей, но крепко стоящей, будто вросшей в землю избы шла с ведром к калитке старуха интеллигентного вида, почему-то сразу показавшаяся Лыкову (так он подумал) хранительницей старины, о чём, в сущности, мог бы свидетельствовать лишь её, без сомнения, старомодный наряд - этакий халат-пальто-шлафрок - и папироса, вероятно, погасшая, потому что, совершив светлячком подлёт к лицу женщины, заставила её остановиться, придирчиво осмотреть себя и проворчать нечто вроде упрёка – однако, довольно сдержанного - в адрес божественных, а может дьявольских сил. Альберт Васильевич замедлил шаг, подгадывая момент выхода на сцену исторического персонажа к своему собственному появлению у той же кулисы-калитки, чтобы в нескольких энергичных репликах провести рекогносцировку. И не ошибся. Точнее, ошибся только в одном - первой заговорила она, оказавшись притом отнюдь не старухой, а что чаще именуют "пожилая дама", но состаренная сверх возраста худобой своей и тёмным цветом кожи, приобретшей от табака ещё и сероватый, истинно пеплом обернувшийся налётец. Водяная колонка расположилась по другую сторону улицы, чего Лыков не заметил сразу, а теперь положил целью их общего дальнейшего движения; между тем, едва ступив за калитку, женщина остановилась и, скользнув глазами по лыковской столичной одёжке, сказала - будто и ждала только появления гостя: "Здравствуй, мил человек!" Альберт Васильевич немного опешил от неожиданности и не успел ответить, как она продолжила: "Вижу, в поисках ты. Иди прямо, дойдёшь до рынка, повернёшь налево, той дорогой, что приехал сюда. Кончатся дома, и сразу тропинка будет на горку, вон ту, с оградкой, видишь? Это и есть кладбище. А кроме него тут ещё два, так то не те. А там прямо у входа камень. Настоящего-то места никто не знает." Женщина показала на одну из трёх самых заметных возвышенностей не более чем в километре от места, где они стояли, и только теперь Лыков" разглядел тёмную полоску кладбищенской ограды, отделившей сосновую красноствольную макушку холма от выбритого гладко светло-зелёного затылка-ската. Он хотел было спросить - как это уважаемая угадала нужду его, но когда обернулся, отведя наконец взгляд от материализовавшейся цели паломничества, женщина была уже далеко, а ударившая в ведёрное дно тугая струя и вовсе сделала невозможным продолжение разговора. Лыков крикнул "Спасибо!" и пошёл своей дорогой. Да что, собственно, спрашивать? Будто и так не ясно: умение читать мысли других столь же обыкновенно, как и внушать кому ни то свои собственные. Конечно, здесь, в этом медвежьем углу, подумал он, следует быть готовым к любой неожиданности, но если вспомнить, что во время войны тут был один из самых обширных районов эвакуации, то не исключено, что некоторые беженцы могли остаться навсегда и дать новые побеги на местных родовых стволах. А повстречавшаяся так удачно старуха, бесспорно, выпестована московской коммуналкой и, как ни мял её колодезно-печной быт, не смог отлепить от подкрашенных губ беломороканальской папироски. Если бы та, другая, продержалась ещё немного, и - чем не шутит чёрт! - задержалась тут, - она бы стала таким же высохшим, почерневшим огарком, и что бы случилось тогда с волшебным древом её поэзии? "Волшебное древо" - даже и выговоренное про себя - заставило Альберта Васильевича поморщиться, но мысль сама по себе, поторопившаяся облачиться скоро в более нетривиальную форму, ему понравилась: к творчеству и к смерти подталкивает одно и то же, именно - страдание, и только сила его решает в противоборстве двух человеческих инстинктов - инстинкта культуры и инстинкта смерти; сила одного и сила другого странным образом связаны в душе человека законом пропорциональности: сильнее один - значит сильнее другой; право, сильные души - творцы и самоубийцы; слабые становятся вот такими огарками, влачащими растительное существование. В этом месте Лыков притормозил полёт теоретической мысли и укорил себя за несправедливость к той неведомой ему судьбе, которая пересеклась с его собственной несколько тому назад и с такой лёгкостью прочитала тайные знаки устремлённости её. Он посмотрел на часы - прошло, верно, немногим более десяти минут, а встреча та уже казалась невообразимо далёкой и вообще какой-то нереальной, будто воспоминание о давнем сне или о чём-то таком, чего и вовсе не было и быть не могло. Но тогда откуда же известен ему тот видимый отовсюду взгорок с оградой, подпоясавшей сосновую рощу, и откуда знать о кладбище в ней, и что оно - одно из трёх и то самое, которое нужно ему? И как он вышел к этому рынку? Лыков побродил немного меж унылых, полупустых в этот час рядов, купил цветы, осмотрел хозяйственный - тут же на базарной площади - магазин и, ничего не найдя в нём для себя интересного, вышел на тракт. Теперь он узнал его - оставалось пройти каких-нибудь пятьсот метров; дома обрываются разом - в поля, в леса, никаких тебе пригородов, дорога побежит в Набережные Челны, а он поднимется по той намеченной стежком тропе к кладбищенской калитке и, если верить старой вещунье, будет у цели.
Ещё издали он заметил по ту сторону входа слабое шевеление, а когда приблизился и заглянул внутрь, то увидел группку школьников четвёртого (пятого? - он всегда затруднялся в таких оценках) класса, которым сопровождавшая их, по-видимому, учительница читала знакомые стихи. Чтобы не скрипнуть ржавыми петлями, Лыков бочком протиснулся в щель, образованную бетонным столбом и железной створкой, и замер в неподвижности, спрятав за спину неуместно яркие, вдруг показалось ему, тюльпаны. Так оно всё и было, как ему говорили. По незнанию подлинного места камень водрузили у входа; кому- то пришло на ум выкрасить его зеленым, отчего создавалось впечатление замшелости, болотиности и вообще некаменности, а надпись была стыдливо суха, как бывает, когда, выполнив докучливый долг, торопливо, без сердца, выбивают на могильной плите короткую биографическую справку: имя, срок на земле. Еще массивные цепи, провисшие на низеньких опорах, очерчивали площадку полтора на полтора метра, где чьей-то заботливой рукой поддерживался в идеальном порядке маленький цветник. Явление Лыкова возымело на детские души большее впечатление, нежели читаемые стихи, все повернули головы в его сторону, а учителка (так он мысленно уже называл ее) замолчала в ожидании, пока детское любопытство будет удовлетворено и станет возможным продолжать рассказ; а что до нового слушателя, то ведь и ему, верно, интересно будет послушать, а тем более – стихи и в столь необычном исполнении; хорошего учителя не смутишь посторонним присутствием на уроке, а то, что она – хороший учитель, и урок тоже неплох, Альберт Васильевич понял сразу и бесповоротно. Зато сам он смутился и сделал несколько извинительных жестов свободной рукой, настойчиво давая понять детям – слушайте, а ей – продолжайте. И она снова заговорила, мальчики и девочки нехотя отвернули от него недоуменные лица и стали внимать (очень музыкальному, заключил Альберт Васильевич) голосу, теперь уже ведущему прозаический рассказ о «жизни и творчестве». И смерти. И снова были стихи – не очень-то, подумал он, понятные детям, но по тому, как они слушали, было видно: что-то проникает в каждого, минуя рассудок, - конечно же, музыка, но еще и нечто не поддающееся определению, приводящее в движение какие-то глубинные структуры, праязык (несостоявшийся учёный, Лыков, однако, по привычке к умственным усилиям читал теперь философские трактаты и, возможно, оттого не становился хорошим поэтом, что непозволительно много знал о Витгенштейне, Барте и Мишеле Фуко), и целые горы сдвигаются в их бессознательном восприятии, куда ещё только подступилась робко археология гуманитарных наук. Поучительное зрелище, подумал он: дети, внимающие гениальному. И снова патетика, с которой вкупе явилась эта, признанная тотчас им тривиальной мысль, заставила его внутренне встряхнуться. Право, стоило обратиться вовне: девушка была безусловно красива - не кукольной, но одухотворённой красотой, которая видна особенно в человеке, когда тот в движении, в говорении - когда глаза встречаются, улыбка освещает лицо, а рука прикасается будто случайно к вашему рукаву, придавая волнующую доверительность даже самым невинным речам. Возраст? Как и в детях, Лыков с трудом угадывал его в женщинах, впрочем, не по неопытности, а, напротив, зная: легко ошибиться и причин к тому несть числа. Он сказал бы - с осторожностью: двадцать пять; но за этим могли скрываться и двадцать три, и двадцать восемь; если б то не Елабуга, где женщины, подумал он, не озабочены сильно камуфляжем, сей примерный диапазон и ещё бы следовало расширить. Во всяком случае, косметика на её лице была незаметна, если не считать тёплого блеска гигиенической помады на очерченных выразительно губах. Пожалуй, та, что ждёт сегодня его звонка, накрашена искуснее, но какова разница! - будто ставишь рядом ботичеллевскую мадонну и красотку с обложки журнала мод. Сдаётся ему, что напрасно (Лыков посмотрел на часы) она с нетерпением взглядывает сейчас на молчащий телефон и, верно, торопит его с вестью о загаданной встрече. Ему стало грустно: он не любил обманывать женщин. И та, другая, за конторкой гостиничного администратора, сию ж минуту лишилась надежды, сама не зная о том, провести часок в обществе красавца-клиента с риском для репутации своей, но несомненно с гарантией приятных впечатлений. И вот так всегда! Один из его удалых друзей в таких случаях говорит: косяк пошёл; Альберт Васильевич однако же не был циником; ощущая, как пробивается в груди росток нового чувства (любовь с первого взгляда - вот что было всегда его мечтой), он старательно обдумывал в то же время, как будет извиняться завтра перед введенной в искушение девочкой-секретаршей и как локализует "хозяйку гостиницы"; последнее представлялось, правда, весьма расплывчато ввиду неопределённости новых открывающихся перспектив и общего направления. Лыков никогда не шёл к цели , сметая всё на своём пути; он, скорее, позволял себе плыть по течению в прихотливой игре обстоятельств, справедливо полагая, что все реки впадают в единый мировой океан, и каждому чувству суждено умереть в нём, растворившись до концентрации столь слабой, что даже при большом желании уловить следы некогда мощного потока ничего, кроме незамутнённой штилевой глади вокруг, обнаружить не удаётся. К сожалению, опыт не прибавляет нам оптимизма; Альберт Васильевич колебался меж двух воззрений касательно своего холостяцкого положения и способов с ним покончить: жениться по любви или же по расчёту; истинно мужская дилемма, странным образом преследующая лишь невлюблённых и тотчас испаряющаяся при первом учащённом сердцебиении. Беда в том, что сердце с возрастом, должно быть, ослабевает и всё реже заходится при столкновении с красотой, а всё чаще при перемене погоды. С другой стороны, сколько ни рассчитывал Альберт Васильевич, прикидывал так и эдак, и даже с компьютером, всякий раз выходные данные были огорчительны - попросту говоря, не было никакого расчёта жениться при наличии такой мамы, как его, окружавшей единственного сына столь полной заботой, что ни одна женщина в мире не могла бы сравниться с ней. И всё же именно серьёзность установки заключала каждую новую встречу в романтический ореол, оживляла при том надежду на подлинно глубокое чувство и вселяла уверенность: браки совершаются на небесах. Скептически настроенный друг, предпочитавший рыболовные термины, пытался убеждать его, что брак - всего лишь контракт, оформляемый для рождения и воспитания (он говорил – выращивания) детей, и не имеет отношения к чувствам, а тем более к экзистенциальным категориям типа счастье, или страдание, или страх; он демонстрировал это на примере собственного вполне благополучного брака, разбавляемого мимолётными связями, и склонялся к мнению, что мужской природе - по преимуществу (куда же деть однолюбов?) - более всего отвечает брак полигамный; но и добавлял, что видит невозможность его в наших условиях по причинам сугубо материальным: не прокормишь.
Одним словом, Альберт Васильевич уже различал явственно первые могучие аккорды, нечто вроде тех, кладущих начало известнейшему концерту Чайковского, и уже начинала за ними разворачиваться чудесная мелодия простора и глубины, и бесконечности, и не менее прекрасные, столь же музыкальные строфы ложились на этот фон длинными мазками волнующих смыслов, заставляя ещё сильнее трепетать душу и биться сердце. В такие минуты, понятно, утрачиваются способности к обобщениям и логическому анализу, но если бы нашёлся некий сторонний наблюдатель, он без колебаний сказал бы: да, это есть то, что называется любовью с первого взгляда. И когда героиня сего мгновенно сочинившегося романа прошествовала к выходу, увлекая за собой притихший дитячий выводок, и на секунду задержалась прямо перед ним, забывшим, что надо посторониться, и вонзила слегка насмешливый взгляд - глаза в глаза, - вобрала его собственный, исполненный восхищения и робкой решительности, в свою зеленовато-голубую искрящуюся глубину, - тогда Лыков отступил на шаг и жестом преданнейшего пажа правой рукой увеличил насколько смог распах железно взвизгнувшей двери, а левую, с цветами, прижал к груди и слегка поклонился, почти незаметно, во всяком случае, почтительно опустил глаза. Он мог бы поклясться, что где-то уже встречал эту женщину, может быть даже говорил с ней, что происходящее сейчас, в эти минуты, с ним происходило когда-то, но где и когда? - этого он не знал. Известное, в общем-то, наверно всем состояние, - Бергсон называет его "воспоминание настоящего"; овладевая нами неожиданно и столь же быстро улетучиваясь, оно оставляет после себя привкус печали - впрочем, такой же светлой, как печаль от музыки, таинственно зазвучавшей в лесу, или стихов с отметиной гениальности. А ведь тут сложилось всё: и музыка внутри него, и стихи, и то странное состояние повторности мгновения, будто перечувствованного в какой-то прошлой жизни; и всё это, сложившись, не то чтобы потрясло Альберта Лыкова, но будто подняло занавес, отделяющий тусклую обыденность с её жалкими атрибутами разнообразия, укоренёнными в чувственной ткани жизни, от бескрайних владений духа. Когда они вышли, он положил цветы к основанию камня, ещё раз перечитал надпись на нём (отставший мальчуган задержался у выхода и спросил: "Она ваша родственница?" Лыков усмехнулся и сказал: "Конечно.") и тут уже по-настоящему поклонился, а дождавшись удаления детской разноголосицы, ещё и перекрестился зачем-то, хотя не был верующим. Вышло это само собой, но, случившись, потребовало объяснения или, точнее сказать, оправдания, которое со свойственной ему находчивостью Альберт Васильевич положил в том, что сей архетипический жест символизирует не столько бога, сколь соприкосновение с высшей реальностью духа, с неким абсолютом, заключающим в себе и творчество гения, и веру в бессмертие души, и уж непременно и в первую очередь любовь! Возможно, строгий теоретик счёл бы лыковскую доморощенную философию смешной, однако будем справедливы: что-то в ней есть чрезвычайно привлекательное. Любовь как побуд к культуре - это ли не великое открытие в эпоху, когда все кому не лень кладут в основу мира не дух, а материю. "Немного воображения, господа!" - часто восклицал Альберт Васильевич в кругу друзей, хвастающих своими унылыми победами, невесёлыми приключениями и путешествиями в ночи. "Почитаем-ка лучше стихи!" и начинал что-нибудь из своего - далёкого, понятно, от совершенства, но в его собственном исполнении, на слух уловленного, напитанного искренностью высокого чувства, - приближавшегося, признавали единодушно, "к лучшим мировым образцам".
Огромный зелёный камень над несуществующим гробом (всё-таки сбежала, ускользнула от гнёта - в сосны, в траву, в непридавленность) уже не казался мрачным; луч солнца позолотил надпись; Лыков охватил ещё раз глазами - запечатлеть - святое место, повернулся и вышел, затворив за собой на этот раз вежливо промолчавшую кладбищенскую воротину. И удивился: как далеко успели уже уйти. Дети стайкой вились впереди; молодая учительница шла медленно, опустив голову, как и положено идти с похорон; ему ничего не стоило их догнать, чуть ускорив шаги, но та сила, источник которой открылся так неожиданно несколько минут назад, погнала с горы неуклюжим бегом, состоящим из каких-то диких прыжков, беспорядочного размахивания руками и гулкого топота, что вполне мог быть сочтён предвестником грозной стихии (в сущности – так оно и было), наподобие камнепада или снежной лавины. Альберт Васильевич, однако, опережал издаваемый своим движением звук, ему казалось, он легко парит над зелёным склоном, а когда оставалось до цели несколько метров, резко затормозил - врезался каблуками, взрыл убитую до белизны тропу и, всё ещё боясь поравняться, пошёл позади крадущейся поступью. Тропинка, напоследок провалившись в заросший кустарником и травой кювет, взлетела к асфальту, резко сократившему угол спуска и сделавшему дальнейший путь удобным, по мнению Лыкова, "для первого знакомства"; он два раза шагнул широко вперёд, и плечо девушки оказалось рядом, почти на одном уровне с его плечом, - она была высока ростом и держалась прямо, поразив его в этом новом ракурсе гордой посадкой головы: скользнула искоса взглядом, и получилось, будто смерила - сверху вниз, и, молчащая, с не скрываемой теперь улыбкой, продолжала идти, согласуя шаг с его, неровным от предыдущего волнения шагом. Не собравшись мыслями за время погони, Лыков никак не мог найти первого слова, пауза всё более становилась неловкой, и только после того, как она ещё раз - ободряюще - посмотрела на него ("Ну же!"), он сказал нечто незначащее и почувствовал - голос не слушается, садясь и впадая в хрипоту. Но это уже было не так важно: сигнал боевой трубы не обязан прикидываться музыкой - он исполнен другого смысла, жизнь и смерть сливаются в нём в единое целое. Задумывался ли кто-нибудь, какой скачок совершается в мире, когда двое не знакомых до того людей заговаривают друг с другом? Альберт Лыков думал над сей великой проблемой и даже произвёл необходимые расчёты, пользуясь, как и всякий порядочный касталиец, ненормируемостью своего рабочего дня и находящейся в его распоряжении вычислительной техникой. По выполнении чего пришёл к выводу: энтропия Вселенной уменьшается при каждом такого рода "вербальном скачке" на десять в минус тридцать четвёртой степени процента. Результаты исследования Альберт Васильевич опубликовал в касталийском сборнике трудов, посвящённом "человеческому фактору". (Научная общественность от этого не всколыхнулась, но сам Лыков был чрезвычайно ободрён итогом своей работы и далее - без огласки - подсчитал, насколько же он лично уменьшил оную энтропию за время пребывания в этом лучшем из миров. Получилась довольно внушительная цифра.)
Итак, в человечьем косном конгломерате забил новый родник, наполняя "чашу любви", из которой, жаждали испить две случайно встретившиеся у гробового входа младые жизни. О нём уже сказано достаточно. Что до неё, то сообщим только ею самой положенное необходимым сообщить своему визави и, в свою очередь, им выясненное посредством всяческих - в рамках приличия - вопросов; а ввиду прямо-таки осязаемой тайны, которой окутана всегда красивая женщина, много добиться не удалось. Имя, пожалуй, здесь было главным: имя - это душа человека, - гласит один из древнейших магических постулатов. Лыков даже повторил его вслух и потом несколько раз ещё про себя: Альфия. С ударением на последнем слоге. И по слогам: Аль-фи-я. Странно, подумал он, в её лице ничего восточного. Разве что глаза-миндалины, но ведь и в них вместо сгущенного до черноты азиатского солнца – голубовато-зеленая средиземноморская гладь. Что? Окончила Казанский педагогический институт, преподает русский и литературу. Да, родилась и выросла здесь, в Елабуге. Нет, живет у родителей, Нет. Это последнее «нет» Лыков получил в ответ на вопрос, который должен быть расценен, разумеется, как нескромный («Вы замужем?») или, по меньшей мере, преждевременный – не прошло и десяти минут после начала атаки, - но бывают случаи, когда скорости сближения столь высоки, а само оно столь желанно обоим, что ни один вопрос не кажется лишним, если он помогает устранению каких-то препятствий. Границы взаимопонимания при том диктуются отнюдь не приличиями – они естественны и воздвигнуты на краю слов, у входа в усыпальницу сокровенного – там, где царит безмолвие. Приходит время – раньше или позже – и оба, взявшись за руки, начинают спускаться туда – молча, или один другого подбадривая признаниями, или барахтаясь в невнятице междометий, и тогда во тьме вдруг начинает что-то светиться, а бывает – и разгорается по-настоящему; но огонь сей непорочен, и душа чужая, подразнив отраженным светом, опять уходит в потемки.
После того как заявлены позиции на анкетном поле, лучше всего начинать игру с маневрирования легкими фигурами: известно, что самый короткий путь к цели – отнюдь не самый прямой. Да и цель в данном конкретном случае виделась Лыкову отличной от тех привычных маленьких целей, которыми питалось его повседневное общение с роем министерских сотрудниц, представительниц сферы услуг и случайно залетающих на огонек мотыльков из мира богемы. К слову сказать, и то прелестное создание из директорской приемной, и снедаемая чувственной тоской «хозяйка гостиницы» совсем даже не исчезли с горизонта, оттого что над ними вознеслась подобно снежной вершине новая большая цель; как истинный охотник, Альберт Васильевич умел держать в поле зрения - и делал это по чистой привычке - сразу все достойные того объекты; и теперь, впрочем, не отдавая себе отчёта, склонен был двигаться к дальней вершине как бы посредством покорения высот промежуточных, где, по всей вероятности, постарался бы закрепиться (создать "базовый лагерь", говорят восходители). Каждый национальный язык, утверждает лингвистика, дробит мир по-своему, тем и создавая, и основополагая оригинальную культуру; справедливость этого утверждения с неменьшей наглядностью представляют языки индивидуальные: там, где вполне могла бы примениться упомянутая терминология рыболова, Альберт Лыков предпочитал возвышенный стиль покорителя гор. А уж если захотелось поёрничать, то никого не оскорбит напоминание строчек безвременно ушедшего поэта: что лучше гор есть только горы, и так далее. Право, Альберт Васильевич был настоящим интеллигентом.
Детская группка ещё дальше ушла вперёд, тактично давая понять, что дела взрослых - такие понятные, разумеется - её не интересуют, и только на перекрёстках иногда замирала, вопросительно поглядывая назад двумя десятками глаз, на что Альфия отвечала царственно-плавным взмахом руки: вперёд, направо, налево. Быстро выев сердцевину неопределённости, разговор перекинулся на судьбу, с которой так решительно и бесповоротно распорядился этот захолустный городок, создав себе мировую, день ото дня возрастающую славу тем, что не приютил живую душу, но принял в землю свою исстрадавшееся тело. Лыков ничего не видел вокруг - ни улиц, ни домов, ни деревьев - только разбитый тротуар под ногами, чтоб не споткнуться, и её - Альфию, и только слышал её рассказ. Он не знал всех подробностей скорбного конца и теперь впивал их с напряжённым вниманием, подогретым общей восторженностью от того, что она шла рядом, от восхитительной музыки её голоса, от стихов, которые они вместе вспоминали, помогая друг другу и даже прочитывая кое-что дуэтом, как бы создавая мимоходом новый жанр, ничем, решили, не уступающий пению. Кому случалось отыскать родственную душу в прекрасной оболочке телесного, легко воскресит в памяти тот особый род тихого экстаза, будто приподнимающего и окрашивающего мир в солнечные тона. С каждой новой протекшей минутой Альберт Васильевич всё более укреплялся в сознании: его собственная судьба оказалась в каком-то мистическом скрещении с судьбами Высокого Искусства и Мировой Любви. Не то чтобы он мог сейчас размышлять об этом, оперируя столь отвлечёнными категориями; он это чувствовал (ничуть не менее плодотворный способ философствования!), а говоря более определённо, всем своим поведением демонстрировал готовность рабски следовать за этой женщиной, куда бы она ни направилась в следующую секунду, на что бы ни обратила своё внимание, какую бы прихоть ни выставила для того чтобы испытать его силу, мужество или способность к самопожертвованию. Они шли теперь к тому дому, где.. О, ирония злых богов! На улице Жданова - он не ослышался?! Именно так, увы. Должно быть, по случаю большой победы, одержанной в борьбе за торжество тьмы. И ведь какова экономия! Не растрачено зря ни минуты государственного времени, ни листка бумаги, ни грамма свинца. Идеально тихое убийство. Как они потирали руки на очередном торжественном заседании! - ещё бы, не каждый день залетает в силки крупная дичь. Слушали. Постановили: переименовать улицу, где стоит дом, хозяев наградить ценным подарком. В гневе Альфия была ещё прекраснее: глаза её потемнели, на скулах выступил горячий румянец, высокий чистый лоб перерезал веер сбегающих к переносице морщинок, презрительно кривились, выгибались луком губы. Повинуясь непреодолимой тяге, то ли желая успокоить, то ли просто коснуться, он дотронулся до её руки и не встретил отказа. Гневная тирада оборвалась, из разжавшихся пальцев выпал меч. То, что последовало дальше, ни тот, ни другой не смогли бы объяснить с точки зрения общепринятых норм, - оно требует перехода на другой, более глубинный уровень анализа, возможно, оперирующего понятиями бессознательного. Альберт Васильевич легонько сжал с боков крупную длиннопалую кисть и - ладонь на ладони - поднёс тыльной стороной к губам, запечатлевая, с перехваченным дыханием, с сердцем, выскакивающим из груди, долгий, исполненный горячей нежности поцелуй. И что тут такого? - спросит какой-нибудь завзятый скептик, прошедший через горнило сексуальной революции, - подумаешь, поцеловал даме ручку! Раньше это было принято повсеместно и всечасно практиковалось безо всяких на то сомнений. Но ведь - раньше, ответим мы. Анатомия любви изменилась, и не меньше, чем изменили годы лицо мира, истерзанного вашими революциями, войнами и научно-техническим так называемым прогрессом. Сей воображаемый диалог успел пронестись в уме Альберта Васильевича, пока он ощущал на губах теплоту и вдыхал аромат её молодой кожи, - возможно, потому, что в пограничных ситуациях (когда оказываешься перед лицом смерти, а равно и любви) мысль ударяет подобно молнии; но поскольку он вообще потерял совершенно чувство времени, таковое могло случиться и по причине чрезмерной длительности самого поцелуя. Альфия мягко высвободила руку, и он скорее догадался, чем увидел, что она приветственно помахала кому-то на другой стороне улицы. Лыков очнулся от своего сна наяву и, оглядевшись, с удивлением обнаружил, что любовный порыв захватил его на том месте, где совсем недавно ему указывала путь на погост демонического вида старуха с папиросой. Ба! да это она сама и стоит всё так же с ведром у водоразборной колонки, и её-то и приветствует Альфия! "Моя бабушка." Лыков галантно поклонился и получил в ответ незамысловатый иероглиф белым папиросным мундштуком в засветившемся на солнце облачке табачного дыма. Они прошли ещё немного вперёд и повернули в узенькую, заросшую травой и бурьяном улочку с пешеходной тропинкой посередине, которая вскоре привела их к овражку, наискось пересекающему два ряда глядящих друг другу в окна бревенчатых изб. По дну оврага вяло струился ручеёк; бетонный мостик захватывал тропу, выносил её на другую сторону, и там она пряталась в тени старых деревьев, обступивших полуразрушенный остов храма, даже в забросе и запустении своём поражающий подлинным величием. Лыков аж присвистнул от изумления. Теперь Альфия взяла его за локоть и повернула лицом к крайней, у оврага, трёхоконной избе: на правом венце её неуклюже лепилась мемориальная доска. "В этом доме... известная русская поэтесса..." Всё бездарно и без души. Избёнка, впрочем, была аккуратно выкрашена ядовито-салатной зеленью, под железом, того же цвета штакетник обегал по краю оврага небольшой, засаженный, видно, картофелем участок земли. Позади дома виднелись кроны яблонь, в палисаднике, перед занавешенными окнами увядал от раннего майского зноя неухоженный цветничок. Калитку, перекрывшую доступ к наглухо замкнутой веранде, увенчивала традиционная табличка с извещением о злой собаке: чтоб не совались. Ходят слухи, сказала Альфия, вроде бы и крючок тот в сенях, в потолочной балке, цел целёхонек. Да что говорить (Лыков снова оглянулся на храм) при виде поруганной красоты - если сам положил все силы и всю жизнь на её сотворение, - как не пойти и не повеситься на первом попавшемся на глаза крюку? Дети воробьями облепили заборчик - читали выбитое на мраморе. Пусть читают, кто-нибудь из них, может, поймёт со временем, какая душа отлетела тут в иной, безусловно, лучший мир, а поняв - вернётся и устроит всё вокруг с благоговением и любовью и объяснит людям, какая дорога ведёт к храму. Альберт Васильевич высказал эту пришедшую ему мысль, конечно, другими, не столь высокопарными словами, но последнее - о "дороге к храму" - произнёс именно так, невзначай припомнив недавно прошелестевшую над страной аллегорию. Альфия прошла вдоль забора, снимая с него заворожённых чем-то (не призраком ли смерти?) детей, и, собрав их снова цыплячьим выводком, отпустила по домам; они послушно побрели обратно по улице, притихшие, понурые. "Мы писали, - сказала Альфия, - что музей нужен, улицу переназвать по имени её, восстановить церковь. Ответили - средств на это хорошее дело у города не имеется. Так и живём." Они прошли по мосту и меж двух пушистых вётел, соединивших порталом седые кроны, вступили под своды вековых лип. Вороньи гнёзда, облепившие черным наростом пунктирную сеть ветвей в высоте, пульсировали от внутренней, то набухающей, то опадающей жизни, и от этого явственно ощутимого напряжения, от глухого, изредка перебиваемого истошными вскриками монотонного грая здесь царила атмосфера недавно улёгшегося побоища, сгущаемая к тому зеленоватым сумраком глубокой, недоступной солнечным лучам тени; храмовые стены зияли кроваво-красным спекшимся кирпичом в местах отвалившейся штукатурки. Лыков сложил рупором ладони и гикнул что было мочи, удачно подражая, должно быть, вороньему кличу, ибо тотчас миллионноголовая стая снялась и рванула ввысь, наполнив округу оглушительным хлопаньем крыльев и новыми горловыми аккордами, в диссонирующем крещендо взвившимися вслед за тучей тел и быстро сникшими где-то в небе. Альфия засмеялась, по-детски зажала уши и зажмурилась, став похожа на девочку, которой довелось "водить" в игре "в прятки". Воспользовавшись моментом её обезоруженности, Альберт Васильевич обвил правой, в силе своей уверенной рукой тонкий девичий стан и мягко притянул к себе. Он уже не способен был управлять собой, ощущая только одно жгучее желание - поцеловать девушку: прижаться губами к её восхитительно свежим губкам и пить из них блаженный нектар-амброзию, пока ни перехватит дыхание и напряжённость позы не потребует новых движений. И он уже было потянулся к вожделенным вратам, однако встретил сопротивление, столь же мягкое, но непреклонное, каковым было его собственное порабощающее движение; расширенные потемневшие зрачки стали перед его лицом двумя запретительными огнями, а на грудь легли старые знакомцы-ладошки, недавно показавшиеся такими сильными, а теперь, когда он накрыл их с тыльной стороны вспотевшими от волнения пальцами, неожиданно сжавшиеся и похолодевшие. "Почему?" Традиционно глупый мужской вопрос прозвучал смешно, и она опять рассмеялась. "Не здесь." Они снова двинулись вперёд, к пролому в стене, когда-то бывшему, очевидно, главным входом, поднялись на паперть и по растрескавшимся обомшелым камням вошли в церконый придел. В отличие от сотен разрушенных церквей, сквозь которые досталось в разное время жизни пройти Лыкову с тяжёлым от тоски сердцем, эта сохранила главное - могучий фундамент, возможно, сбитый из притёсанных валунов: уложенный гранитными плитами, почти не поддавшийся короблению пол поглощал звук подобно гигантскому монолиту. Стены вздымались высоко и свободно, неся бережно сохранившиеся островки фресок и облицовочной керамической плитки, чистой голубизной входящей в соперничество с небом, открывающимся то там, то здесь в оконных проёмах и заменяющим собой снесённые купола. В боковом нефе - другой пробоине - обрисовалась полоска воды, прочерченная вдоль поросшего лесом камского левобережья. Но главное, что несомненно завладевало тут вниманием пришельца, была царившая вокруг необыкновенная чистота: будто кто-то вымел, отскоблил, отмыл каменный пол, обтёр стены мягкой тряпицей и, сам невидимый, терпеливо ждёт прихода гостей. Уцелевший Христос на купольном своде взирал по обыкновению скорбно и тихо. "Здесь молится моя бабушка", - сказала Альфия. Лыков счёл это утверждение многое объясняющим и ввиду устремлённости мыслей на другое не стал выяснять подробности сего странного на его взгляд ритуала, ответил одним только неопределённым междометием: "А-а..." - и на секунду представил себе отбивающую поклоны цыганистую старуху с папиросой в зубах.
Они поцеловались. И оба смутились, как дети, которым случилось поцеловаться среди игры; Альберт Васильевич хотел что-то сказать, но слова замерли на губах из страха быть произнесены всуе, и, повёрнутая вспять, неуместная цитата преобразилась в молитву. Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нём. Со спрятанными всё ещё глазами Альфия потянула его за руку; они вышли тем же путём и, обогнув угол храма, оказались на высоте над скрытым хвойной лесной порослью берегом, убегающим - через брешь в церковной ограде - вниз по склону просёлком и далеко видимой с востока на запад лентой реки. Шишкинский знакомый пейзаж! Несомненно, с этого места он и видел и писал его! Кама в окрестностях Елабуги. Она не была в Нижнем Новгороде, сказала Альфия. К сожалению. "Не беда, - сказал он, - у вас ещё всё впереди." И тут же поправился: "У тебя." Разумеется, там нет на горизонте этих нижнекамских чудовищ, ощетинившихся трубами, изрыгающих дымное пламя и насылающих удушье посредством ветров, сохраняющих тут упорное, достойное лучшего применения постоянство направлений. Нет, сказал он, Шишкин тем и хорош: донёс до нас русские ландшафты в их первозданном виде, его взгляд не замутнён предвзятостью, не искажён дурным настроением. В живописи Альберт Васильевич, как это ни покажется странным в наше время, оставался поклонником натуральной школы. На что Альфия заметила: в нынешнем положении вещей более была бы кстати сезанновская кисть с её нависающими задними планами - по крайней мере стало бы ясным, что надвинулась катастрофа. Альберт Васильевич не согласился: у Сезанна этот маленький ад на горизонте, придвинувшись вплотную к зрителю, был бы необычайно красив. Неужели она никогда не замечала, как бывают красивы урбанистические пейзажи? Это зловещая красота, сказала Альфия. Демоническая. Дьявольская. Верещагинская гора черепов тоже красива, он согласен? Трагедия эстетизма в его бессилии. Так беседуя, они вернулись через "липовый зал" (Альфия сказала) к домику с мемориальной доской, минуту молча перед ним постояли, мысленным взором проникая внутрь, насылая туда призраки былых времён, и потом, кажется, даже поклонившись едва заметно, двинулись вверх по улице Иванова. Но теперь всё было по-другому. Запечатленный полчаса назад поцелуй работал наподобие катализатора в набирающей силу реакции образования страсти, точки сопрокосновения рук становились всё более горячими; пали сумерки, и Лыков обнял её за талию, пользуясь тем, что улицы были по-прежнему пустынны и плохо освещены. Альфия не только не противилась этой бурной атаке, но и, по всему, была возбуждена не меньше и, когда в ход пошла "тяжёлая артиллерия" - стихи, сдалась на милость победителя, приняв приглашение '"на чашку чая". Дон Жуан в обличье Альберта Лыкова торжествовал, изливая нахлынувшее чувство в стихотворной импровизации. "Я не дьявол-искуситель, не знаток рецептов яда, у дверей твоих проситель нежно-трепетного взгляда!" Альфия громко рассмеялась, и то была чудеснейшая музыка, мелодичная и волнующая, как итальянская тарантелла; она придала ему уверенности, и он продолжал: "Я не сумрачный гадатель телепатов тайной лиги, я души твоей читатель - увлекательнейшей книги..." Дальше должно было что-то последовать об авторе - "из рода менестрелей" и каких-то "песнях огненной метели", но тут они подошли к подъезду гостиницы, Лыков прервал сочинение на полуслове и сосредоточился. Все знают, что проникнуть в советскую гостиницу без документа и специального разрешения администрации человеку с улицы нелегко, даже если он идёт в сопровождении того, кто на законных правах пользуется гостиничным номером. Гостям же, паче чаяния они были допущены в святую обитель, разрешено оставаться в ней не долее чем до одиннадцати вечера, после какового часа для выдворения их может быть применена сила. (Исключение составляют преступные элементы, но известным преступлениям против нравственности в "Елазе" места не было по причине заштатности командированной клиентуры.) Да и Лыков с большим несравненно удовольствием пригласил бы новую знакомую в театр или, на худой конец, в ресторан, только театра в Елабуге никогда не было, а ресторан, сказала она, отвратительный, к тому же все места наверняка заняты. Пожалуй, пуще всего Альберта Васильевича смущало воспоминание о неосторожном жесте - знаке определённого расположения, которым он приветил поутру даму за конторкой. Если она, по несчастью не сменилась, то положение будет не из ловких. Они вошли в подъезд и поднялись - четыре ступеньки - на площадку перед лифтом. За конторкой администратора, видимой через отворённую дверь в конце коридорчика, было пусто; пустовало и деревянное кресло вахтёрши с круглой, вышитой гладью подушечкой на сиденье. Эти несколько секунд между блаженством свободы и позором бесправия, между мстительным чувством победы над полицейщиной и унизительностью привитой вины показались Лыкову вечностью. У лифта горела красная кнопка; цена успеха равнялась пяти шагам, которые отделяли их от входа на лестницу, и ещё восьми коротким пролётам, где вероятность быть задержанными существенно уменьшалась, однако не исчезала вовсе. И они преодолели их с достоинством, даже не пытаясь бежать; ключ, взятый наизготовку, мягко вошёл в замочную скважину, совершил два восхитительно бесшумных кульбита, и ворота в рай послушно распахнулись, приглашая войти. Они переступили порог, Альберт Васильевич затворил дверь, для уверенности надавил на неё плечом и снова замкнул запоры. Альфия засмеялась и сказала:
"Только с ордером на арест."
Опытные соблазнители знают, что едва ли не самое трудное в донжуанском их ремесле - верно оценить скорость, которая отличает падающее женское сердце. Здесь требуется поистине дьявольское чутьё, ибо то не просто свободное падение тела по школьным законам физики и даже не более сложный физиологический вариант; женское сердце, думал часто Лыков, больше похоже на летучую мышь, проносящуюся во тьме, кажется, одновременно во всех направлениях, и угадать момент, когда оно, обессиленное, вдруг опустится тихо на вытянутые тобой вперёд - корытцем - ладони, - это невероятно трудно. Но и тут нельзя спешить: сначала близко поднести к глазам, чтобы рассмотреть чудесное устройство, налюбоваться рубиновым переливающимся в глубине свечением, темнеющим по мере схождения к внешней полупрозрачной оболочке и, случается, подёрнутым очажками стылой окалины. И только после того начать потихоньку сдавливать в руках и поворачивать, как поворачивают диковинный плод, очищая от наслоений прилипших к сладкой поверхности чужих шелестящих слов, засохших касаний, отпечатков жаждущих, робких, пламенных, мечтательных, восхищённых, ревнивых глаз и струпиков отболевшего.
Они прошли на кухню и сели за стол, у окна, открывающего над слоистой плёночкой одиноко предлежащей крыши по ту сторону улицы лесистую холмящуюся даль. Сумеречный свет, тяжелея и отстаиваясь внизу всеми оттенками зелёного, возносился вверх через толщу белесоватой пустоты к темнеющему в лилово-синих переливах и уже загоревшемуся несколькими звездами небу. Мельком взглянув в окно и восхитившись мысленно разверзшейся за ним перспективой, Лыков перевёл тотчас взгляд на девушку и, пока ставил на плиту чайник, собирал на стол, извлекал из холодильника небогатый провиант, собранный в дорогу и, в общем-то, плохо приспособленный для угощения, - по большей части всё смотрел на неё, с трудом отводя глаза всякий раз, когда этого требовали обстоятельства дела, но тут же и возвращаясь к источнику – такого неожиданного! - своего вдохновения. Она сидела, положив локти на столешницу, и смотрела в окно, вдаль, являя в грациозном повороте головы античный профиль необыкновенной чистоты линий. Молчали, как бы давая понять друг другу, что некуда спешить и что, возможно, вот эти минуты перехода - из чуждости, скрытости, взаимного небытия - в плотнеющие слои чувственных ощущений, стеснения духа и такой их странной предполагающейся слиянности суть главная прелесть текучего времени, самой жизни. И даже грусть в такие минуты - оттого что всякому чувству суждено умереть - даже она прекрасна. Это было очень острое переживание , и Альберт Васильевич, человек и без того по природе своей весьма чувствительный, с душой, по справедливости будет сказать, женского склада (не в укор ему то замечено), старался продлить его своим молчанием. Сумерки быстро сгущались; тишина, изредка нарушаемая только соприкасающимися предметами сервировки, неосторожным движением, вдруг неожиданно громким урчанием холодильника, какими-то стуками за стеной, - тишина была осязаема, как и осязаема густеющая тьма. Как и почти осязаемо тело девушки, которое в воображении своём Лыков уже вбирал в себя обнажённым, упоительно-прохладным, доверчивым. Его чувственный пыл, однако, взметённый было её неожиданно лёгким согласием пойти в гостиницу и достигший апогея в момент "перехода границы", теперь явственно спадал, освобождая место прибывающей нежности. Потом, всё так же глядя в окно, Альфия стала читать стихи: "Я расскажу тебе про Великий Обман, я расскажу тебе, как ниспадает туман на молодые деревья, на старые пни, как погасают огни в низких домах..." И дочитала до конца, и повернула к нему лицо, и, подняв глаза с расширенными зрачками, посмотрела прямо, будто вручая себя в его полное распоряжение. Тем временем уже стали расплываться очертания предметов, в доме напротив загорелись окна, Лыков подошёл к двери и щёлкнул выключателем. От яркого света оба зажмурились и рассмеялись. "Немного коньяка?" - спросил Альберт Васильевич. "Пожалуй", - ответила она и с вежливым удивлением окинула взглядом стол: несмотря на дальность и тяготы перевозок, кое-что из непортящихся столичных, распределяемых в министерстве деликатесов достигли-таки забытой богом и властями глубинки и теперь поблескивали отражениями тёплого огня вкупе со внутренней, исходящей из самой плоти яств возбуждающей энергией. А и всего-то навсего немного балычка, да копчёной колбаски, да баночка красной икры и несколько "мишек" для чаепития. Или к кофе. По правде сказать, возилось всё сие больше для "смазки" деловых контактов, то бишь - умащивания секретарш и, при необходимости, машинисток, и если не было ещё раздарено, то лишь по чистой случайности. А коль в основе нашей жизни лежит некий телеологический принцип, то наверно потому, что ждало именно этого загаданного судьбою случая. Альберт Васильевич извлёк из чемодана знаменитую флягу и водрузил на стол к ещё большему изумлению гостьи.
Они грели коньяк в ладонях и пили маленькими глотками. Прислушивались к тому, как разжимаются скрепы, соединяющие душу и тело, и те начинают перемещаться и жить, и чувствовать в отделённости, без оглядки друг на друга - легко и свободно. Всё можно было говорить. И всё должно было совершиться само собой. Но прежде чем он рассказал ей о себе - она ведь ждала этого - он предложил ей стать его женой. И она так же незамедлительно и со смехом согласилась - конечно, как же иначе! - он даже не спросил, есть ли у неё дети. Ах, его это, видишь ли, не смущает! Но их же полюбить надо. Прекрасно, он уже любит их, потому что - любит её. Осторожно, сэр! Не попадитесь на удочку. Блестящая наживка обманчива - и смертельна. О, боже! Он готов умереть! Нет, он хочет жить - ради неё. Конечно, смерть - это главное событие в жизни человека, и тут нечего возразить, но ведь следом за ней идёт любовь. Пожалуй, теперь он даже не взялся бы утверждать, что за чем следует и что главнее. И наверно в итоге склонился бы к мнению о превосходстве чувства жизни над чувством смерти и, соответственно, события жизни над событием смерти, ибо одно пойти на смерть во имя любви, и совсем другое - отчаявшись.
Они опять вернулись к судьбе той, что в отчаянии переступила за грань в домике у овражка, под стенами разрушенного храма, и Альфия сказала: если он был бы действующим, то она б не сделала этого. Ведь последнее утешение - в боге. Когда исчерпано всё, остаётся молитва. Альберт Васильевич при этих словах поискал ещё и улыбку на губах девушки, но вместо неё увидел вдруг нечто иное: на молодом красивом лице проступила на минуту маска такой глубокой скорби, что даже сквозь радужный алкогольный флёр на него повеяло холодом отчуждённости. Это ощущение быстро прошло, однако память о нём не отступала во всё время дальнейшего разговора, и, наконец, не выдержав принятого полушутливого тона, он попросил её рассказать о себе.
Она рассказала. Елабужское детство, учёба в Казани, замужество, рождение сына, неожиданное вдовство, возвращение к родителям. Лыков подумал: состояние нации определяется по количеству вдов на тысячу, да ещё по количеству матерей, потерявших детей своих. Это была печальная, но какая типичная история! Он протянул руку и, захватив её пальцы, легонько сжал их и вскоре почувствовал, как её рука напряглась, высвобождаясь, но не сбросила, не оттолкнула, напротив, повернулась ладошкой вверх и обняла его в ответном пожатии. Теперь слова, какими бы ни были они утешительными, ободряющими или, сверх того, словами любви, ничего бы не смогли добавить к тому, что уже произошло. Тогда Альберт Васильевич встал со своего места, обошёл вокруг стола и, склонившись к девушке, приник к её губам, чувствуя, как она поднимается навстречу ему, ища тесного и свободного объятия.
...А потом волны прилива подхватили их и, мерно раскачивая между землёй и небом, перенесли в страну, которой имя бессмертие, где сам воздух пропитан розово светящейся нежностью и звучит абсолютно чистым тоном безраздельного понимания.
Утром Лыков проснулся от того, что солнце, взойдя над лесом, ударило сквозь оконное брызнувшее стекло и приникло к коже горячей паутиной, и, чтобы содрать её, он теранул по лицу ладонью и, тем отгоняя сон и вместе наполняясь блаженной лёгкостью, открыл глаза и сел на постели. При свете дня сдвинутые кровати двухместной гостиничной спальни выглядели вполне как брачное ложе. Прислушиваясь к непривычно гулкому сердцебиению, Альберт Васильевич одновременно прислушивался к царящей за пределами его досягаемости глубокой тишине и вскоре понял: Альфия ушла. Отделённое теперь сном, всё происшедшее за несколько часов - от его шага за кладбищенскую калитку и ещё - к могильному камню, и мгновенно за этим последовавшим ударом в сердцевину размягчённой души, испытанным при встрече глаз, - и до того, как она выскользнула из его засыпающих объятий, чтобы дать, наконец, отдых ненасытным телам, - всё это вдруг представилось ему сновидением - необыкновенно ярким, радостным, лёгким, наполненным какими-то обещаниями и ностальгической грустью, музыкой, экзотическими ароматами и даже звуками океанского прибоя, - но всего лишь сновидением, и он меланхолически подумал, согласившись с кем-то, кто сказал это до него: жизнь есть сон. И то верно: иногда пережитое трудно отличить от сна, и даже если оно оставило на тебе неисчислимо царапин, и шрамиков, и шрамов, то и тогда склонен думать и говорить о нём - паче чаяния не смог забыть, - как о страшном сне. Язык не обманывает. Лыков подтянулся на локтях, прислонился к спинке кровати и ощутил затылком холодок от выкрашенной маслом бетонной стены. Уже совсем было успокоившись и перестав слышать собственный сердечный гул, он решил, что столь нетривиальный уход со сцены его новой возлюбленной - при всей неоспоримой серьёзности его планов (он готов был их подтвердить: безжалостные утра, убившие столько благих намерений, этому утру даровали, по всему, высшую мудрость, скрепившую ночные восторги прозрением - он поискал слова - целесообразной необходимости) - исчезновение сие объяснимо тысячью возможных обстоятельств, но только не бегством от него. Да, он женится на ней. Прочь опостылевшую одинокость! Мама? Бедняжка истосковалась по внукам и будет счастлива. Альберт Васильевич вернулся памятью ощущений в только что пережитую ночь, и убеждённое чувство, разгораясь от этих воспоминаний, ещё раз откликнулось восторженным "да". Летом они жили в своём подмосковном садике, где Лыков вот уже добрый десяток лет возводил дачу, а мама выращивала цветы в маленьких оазисах, не захваченных строительной лихорадкой, и по утрам, когда он ещё спал в своей комнатке окнами на восток, она вносила свежесрезанные букеты и расставляла вокруг него в банках и баночках, и молочных бидонах, и даже в тазиках и вёдрах, и, просыпаясь, он будто переходил из одного сна в другой и, подхваченный волнами аромата, уносился в сказочное обиталище фей. Как это было похоже на то, что он испытывал сейчас!
Однако память скользнула дальше, в начало, и, конечно, тут же наткнулась на немногословный, невыразительный рассказ, вместивший в себя жизнь ещё такую короткую, но уже отмеченную каиновой печатью, притоптанную и, как заключил бы аналитический ум (он это сделал в лице Альберта Васильевича), типичную для России. Эта мысль окончательно подавила сладкую полудрёму, Лыков пружиной сбросил с кровати своё мускулистое, тренированное, ухоженное тело, ещё переполненное ночной силой, пошёл на кухню. Минуя распахнутую дверь гостиной, увидел в трюмо отражение своей наготы, и теперь уже с досадой подумал о бегстве девушки. Хотели же ведь позавтракать вместе. А сколько утреннего, отдохнувшего блаженства!.. Альберт Васильевич почувствовал себя обкраденным. Ну, не то чтобы очень, а всё же... Поставил на плиту чайник и пошёл одеваться. В конце концов, главное решено. А найти друг друга в этой большой деревне труда не составит. Во всяком случае, он ни за что не уедет, не повидав её. А может и сразу увезёт с собой. Ребёнок? И его тоже! Ещё раз подумал: бедная мама! Ну, да всё будет хорошо. Взгляд его упал на книгу, дорожное чтиво, так и пробывшее нераскрытым на тумбочке со вчерашнего дня. "Нагие и мёртвые". Вроде бы и давно примелькавшиеся слова, возможно, в силу обострённости всех чувств поразили его сейчас неожиданно вставшим за ними образом. И приводя в порядок постели, он не мог отделаться от ощущения, будто покрывает саваном три нагих тела, из которых одно мужское посередине меж двух других - бездыханно, а те, что по краям, прильнувшие к мёртвому мужчина и женщина, - он сам и его новая подруга. На какое-то время эта зрительная метафора завладела его воображением. Уже одетым вернувшись на кухню, заваривая чай, приготовляясь позавтракать остатками вчерашнего пиршества, он всё размышлял об увиденном, наполняясь беспокойством и одновременно ища ему опровержения в других источниках, а прежде всего - в живых образах минувшей ночи. И когда тот, первоначальный, отдающий мертвечиной образ-толчок совсем потускнел, вытесненный горячей плотью свежих воспоминаний, и уже мечтательная, и даже с оттенком самодовольства, заиграла на губах Альберта Лыкова улыбка мужчины, исполненного веры в себя (таким он, в сущности, и был), глаза, потянувшись к коньячной фляге, горбиком притулившейся у стены в торце кухонного стола, наткнулись на записку. Расчёт был верен: именно там, согнутую в четверть листа, с заглаженными тщательно углами, чтоб не топорщились, раньше времени привлекая к себе внимание, едва выглядывающую из-за блеска нержавеющей стали, и надо было её оставить. Похолодев и уже зная, что там, Лыков протянул руку, с бьющимся сердцем развернул записку и стал читать.
Начиналось, как и следует, с обращения, которое, в свете их короткой, но бурной истории любви (любви?), звучало вполне естественно и даже показалось ему проникнутым искренностью, каковая часто переливается в написанное рукой на бумаге мимо воли автора и задаёт тон дальнейшим аккордам: "Милый!" Ну, конечно! Похоже на правду, потому что было повторено бессчётно горячим шёпотом вперемешку с другими составляющими хорошо знакомого, почти стандартного любовного лексикона и (тут он готов был поручиться всем своим опытом) ненаигранными стенаниями. Милый так милый. И на том спасибо. Без имени. Впрочем, это можно понять. К имени прикоснуться непросто, для этого надо сделать его ручным, поместив каким-то путём в изящную клеточку уменьшительного. Сие требует времени. Он и сам-то ведь ничего не придумал. "Аль-фи-я", - Альберт Васильевич вслух произнёс это не совсем обычное для европейского уха имя и подумал: Аля, Алинька, Аличка... Нет, не то. Как странно - мама зовёт его Аликом, из друзей некоторые - так же. Выходит, в ласковой форме их имена совпадают. Не это ли знамение свыше? Совпадение имён, слияние душ... Лыков усмехнулся. Навык быстрого чтения сработал автоматически: он разом охватил страничку - худшее подтвердилось. И все эти рассуждения об именах и прочей лингвистике уж были после и были, как неуклюжие попытки выкарабкаться из того нежданного провала, в который обрушилась картонным домиком эта классическая, в духе легенд возведенная постройка. Счастливый Тристан во мгновение ока стал обманутым королём Марком. Изольда клялась в неповторимости пережитого блаженства (экстраполяция в прошлое? - но отчего б, он подумал с лёгким недоумением циника, и не повторить?), она горячо благодарила "за подаренные минуты счастья", но... А дальше следовало нечто противное логике здравого смысла: она никогда не сможет полюбить его, потому что (здесь Лыков заподозрил какую-то скрытую цитату) она бы хотела не любить его вовсе или полюбить намного сильнее. Вот тебе раз. Чисто по-женски. А с другой стороны совсем ведь несовременно. Его немалый опыт заявлял с присущей ему безапеляционностью: в этом деле наблюдается полная взаимозаменяемость. И, грубовато, но в общем-то справедливо добавлял, что ещё пара, тройка таких ночей, и яркость тех, давних, лелеемых в тишине, оживляемых снами воспоминаний убудет, стушуется и перестанет навязывать себя этой трогательно-старомодной неискушённости в качестве безвозвратно потерянного рая. Альберт Васильевич сложил записку и сунул её в карман рубашки. В слишком уж наивных просьбах "не искать", "постараться забыть", "дать зарасти душевной ране" ему почудилась неискренность, которая только подогрела решение поступить прямо противоположно. Откуда-то из детства приплыли готовые слова: бороться и искать, найти и не сдаваться. Он усмехнулся - литература и жизнь, похоже, сплетены крепче, нежели принято думать, и доказательством тому - этот ворвавшийся в его жизнь вихрь поэтического безумия. Лыков понимал, конечно: стоит лишь маленьким усилием воли воздержаться от первого шага - и напряжение начнёт спадать и быстро (по меньшей мере, так было всегда) спадёт до уровня лёгкой грусти, которая вполне подвластна разуму. Например, не позвонить. Сказать себе: я не прикасаюсь к телефону. В большом городе, где случайная встреча тебе практически не грозит, так легко избавиться от неугодной страсти! Или ещё надёжней: переключиться на другой "объект". В этом случае процесс изгнания беса ускоряется неимоверно и проходит практически безболезненно. Но нет, он почувствовал - на этот раз двинулось в самой глубине, и движение то, хотя и медленно - до поры, а вообще если сравнимо с чем, так более всего со снежной лавиной, - мощно и по причине слепоты своей разрушительно. Найти! Но как? Он не спросил адреса, не знает даже фамилии. Школы? Где они? Лыков допил остывший чай. Только движение сейчас могло стать выходом нарастающего беспокойства. В ванной он посмотрелся в зеркало - мысль о бритье, возникшая было, когда ладонь со скрежетом прошлась по щеке, показалась отвратительной, - это "движение-в-себе", чистейшая интроверсия, лишь способно было усугубить тревогу. Он плеснул на лицо пригоршню холодной воды и растёрся махровым полотенцем. Блондинистый чуб, доминанта мужественного облика, был пренебрежительно отодвинут со лба и заглажен в общей покорности густых, но мягких волос. Голубизна роговицы в тусклом электрическом свете отливала сиреневым. Припухшие губы плотоядно тянулись к воспоминаниям о ночных поцелуях. Он не понравился себе.
В дверь постучали. "Входите, не заперто!" - и тотчас побежал сам ко входу, подгоняемый робкою надеждой: она! Увидел молодого посланца с увесистой коробкой, и выдох разочарования прошелестел почти неслышным "А-а..." и, наткнувшись на уточняющее "Лыков?", откликнулся вялой репликой благодарности. "А-а... Спасибо. "
Только детской коляски ему сейчас и не хватало! Чёрт бы их побрал, этих подвижников советской индустрии вместе со всем их убогим ширпотребом, бесправием, раболепством. Чем только не подкупали его! Чем не "подмазывали"! И чаще всего - так, на всякий случай, без нужды. Вывихнутый мир его собственной "деятельности" вдруг обнажился перед ним в своём уродстве; обожгло стыдом; как будто прилюдно содрали одежду и выставили на площади для поругания всяк желающим. Ещё этот бедняга, её муж... Подумать, так и он жертва их "славной отрасли": ведь та "продукция", ставшая гробом для полутора десятков мальчишек-солдат и одного лейтенантика, должно быть, счастливого мужа и к тому грядущего отца, тот лёгкий, могучий, быстрый, бронированный дом на колёсах, что зовётся у нас ворчливо-ласково "бэтээр" и становится, похоже, привычным для всех "транспортным средством", - эта стальная коробочка обладает одним маленьким секретом: когда ей случается упасть в воду, она мгновенно тонет, не оставляя ни малейшей надежды на спасение содержимого, то бишь "личного состава", а если на касталийском языке - "человеческого фактора". Конечно, и мост повёл себя предательским образом - обрушиться в такой ответственный момент, в самый разгар боевых учений! Но, с другой стороны, всегда ведь и планируется "определённый процент", если так можно выразиться, "учебных потерь", которыми помимо сотен "рублёвых" миллиардов оплачивается наша "боевая мощь". Посмотреть с этой – прагматической стороны, то ведь кто-то ж должен был "закрыть" собой эти "генеральские проценты"! План - он на то и план, чтоб его выполнять. Бедной девочке просто не повезло. И не ей одной.
Вот так, подумал Альберт Васильевич, военные игры взрослых невежд (вероятно, общее состояние духа побудило его причислить к этим последним и себя самого) оборачиваются войной против собственных детей. Против народа. Он почувствовал, как непроизвольно сжимаются зубы - это был признак уж никуда негодный, свидетельствующий о пределе нервозности - при его-то всегдашнем конформистском благодушии.
В дверь опять постучали. Альберт Васильевич даже вздрогнул, потому что всё ещё стоял над этой никчёмной коробкой, брошенной у порога молодым носильщиком, и едва не додумался до того, что если суждено ему родить ребёнка, то уж он постарается спланировать так (насчёт планирования подобного где-то читалось им), чтоб непременно была девочка. Как ни воинственны были амазонки, а всё же матриархат, по всему, более гуманен, чем господство самцов, а у нас, добавил он мысленно, - и вовсе трутней (и опять в эту недостойную категорию включил себя).
Лыков открыл дверь - перед ним была вчерашняя молодая администраторша. Он успел забыть о ней, поэтому само её появление откликнулось досадой, видимо, отразившейся на его лице: гостья потухла, смущённо-радостное "доброе утро", которым она возвестила о своей готовности к адюльтеру, кануло в его ответном вязком молчании, порождённом внезапной мыслью об избавительном свойстве этого "второго пришествия". Сама судьба посылала ему профессионалку-утешительницу, вероятно, немало искушённую в любовной игре, которая одна сейчас могла отвлечь от разрушительного поэтического настроя, помочь преодолеть этот доподлинно овладевший им синдром лишения. Лыков не был бы Лыковым, если б не знал, как легко смываются душевные порывы таким вот "странствием по телам", подчас сопровождаемым удивительными открытиями, ибо по самой своей сути женская любовь-отдача, любовь-дарение романтична всегда и без исключения, и, отмыкая тело, просто не можешь не отомкнуть душу. Он готов был поклясться, что даже проститутка, если мужчина не отвратителен ей, успевает привязаться к своему клиенту всего лишь за один "сеанс" и потому никогда вообще не испытывает стыда за свою профессию. Разве любовь позорна? Только мужская брутальность, умноженная христианской догмой, а пуще невежеством, в "отдельно взятых" временах и странах возводит понятие "блуда" в кодексы официозной морали. Альберт Васильевич отступил назад и жестом пригласил женщину войти. А когда она шагнула через порог, он притворил дверь и обнял её, преодолевая едва заметное, скорей всего, инстинктивное сопротивление, и поцеловал долгим и нежным поцелуем, ощутив, как обмякает она, покоряясь, и как плавится помада на разгорающихся губках маленького жадного рта. Он был по-настоящему благодарен ей! "Как тебя зовут?" - спросил шёпотом, скользнув губами через персиковую мякоть щеки к золотистому локону, закрывающему ушко. Она ответила. Только он не расслышал, потому что шёпот её отлетел куда-то за спину, в глубь коридора, и там рассеялся, по малости звука даже не отозвавшись эхом. Да и какая разница! Ничего кроме нежности, которой так много было накоплено прошедшей ночью и так много осталось ещё в его душе, он теперь не чувствовал и лишь не препятствовал ей изливаться на эту случайно попавшую в его силки голодную птичку градом быстрых, сплошь покрывших её лицо и руки поцелуев и без тени смущения пробившихся к цели через платяные покровы самостийных ласк. Для женщины ведь это тоже близость. А большего он дать и не мог ей. Понял, что если сегодня же не найдёт приворожившую его необъяснимо беглянку Альфию, то может по-настоящему заболеть от тоски. Почувствовал - сквозь тело, теперь им сжимаемое в объятиях, прошёл электрический разряд, женщина отняла лицо и судорожно прижала к его груди, на секунду окаменев от настигшего её вожделенного удара. Через некоторое время он мягко отстранил её от себя, держа за плечи, и, когда, наконец, выйдя из забытья, она снова подняла к нему лицо и молча, глаза в глаза, они расставили по местам всё, о чём лучше не говорить, а просто передавать чувством на расстоянии, - тогда он всё-таки сказал, как бы итожа на данный момент их мотыльковый роман: "Не сейчас." Альберт Васильевич всегда был предусмотрителен, ему вовсе не улыбалось погибнуть под обломками рухнувшей "большой любви" и, коли уж не удастся спасти её, то по крайней мере самому уцелеть будет значительно легче, если выставить рядом с собой такую вот маленькую, но, похоже, довольно милую подпорку. Он подумал, что вся его жизнь держалась до сих пор на чём-то похожем: в противоположность многим он находил в мимолётных связях бездну романтики, и самую чистую радость, и настоящую печаль. Каждое новое знакомство сулило увлекательное путешествие в глубь неведомого континента, но, как всякое путешествие, всегда им ограничивалось во времени: жить всегда было удобнее дома, с мамой. В сущности, женские тела его интересовали мало. Опытный мужчина хорошо знает, что с некоторых пор всё начинает повторяться и только распадается на классы, в один из которых легко поместить каждую новую представительницу женского естества как совокупность определённых анатомических свойств и умения загораться страстью. Здесь, разумеется, может что-то нравиться или наоборот, могут быть даже свои приоритеты, но! - говорил Альберт Васильевич, паче чаяния доводилось развивать ему сексуальную тему в кружке друзей, - "Но скушно, господа!" и всегда он имел в виду сказать при этом, что скучна сама тема, если в отрыве от души. Женская душа - вот неисчерпаемый кладезь тайн! Даже Фрейд, сей безудержный фантазёр пола, признавался, что ничего не знает о женщинах.
"Не сейчас". Она согласно кивнула, вероятно, выстраивая при том свою собственную модель, которая была бы применима к нему, возможно, даже помещая аналогичным образом в свою оригинальную классификацию - ведь если уж довести начатый разговор до логического конца, то у всякой опытной женщины, - имевшей, предположим, сотню любовников, - непременно мужское естество точно так же таксономировано и, верно, даже с большей степенью детализации. А что касается мужских душ, то ведь всякому известно, что женщины о них невысокого мнения и отнюдь не считают какими ни то загадками. И, кажется, полагают к тому, что тело мужчины - это и есть его душа. Возможно, не без причины. События, например, могли бы развиться в ином ключе, если б с утра Альберт Васильевич хлебнул из заветной фляги с лечебной целью.
Она сказала: "Позвони вечером". Записала на клочке старой газеты (они прошли на кухню) свой телефон, легко пробежалась пальчиками по его небритой щеке и не прощаясь ушла. Он подумал: ещё одна одинокая душа. Может, и прав Шопенгауэр, утверждая, что одиноки - все. Наблюдая женщин, Альберт Васильевич всё больше склонялся к той же мысли.
Он расправил, насколько мог, помятую на груди рубашку, надел пиджак и вышел на улицу. Утро перевалило уже на одиннадцатый час. Было тепло и безоблачно. Солнце катилось к югу над речной поймой в дымной пелене, насылаемой безостановочно с нижнекамских труб, отчего вместе с ядовитеньким душком в воздухе разливалась ощутимая тревога солнечного затмения. Как и накануне, улица выглядела пустынной. Несчастный "Елаз" натужно покряхтывал за проходной - голодный великан, обгладывающий в своей пещере кость ископаемого мамонта. Именно такой вот нелепостью представилась Альберту Васильевичу в этот утренний час затеянная их "славной отраслью" бесславная стройка. Он решил, что больше не пойдёт туда - хватит с него коляски. Есть дела поважнее. Вот когда начнут этого монстра приватизировать, он, пожалуй, купит парочку акций - надо ж куда-то употребить свои "деревянные". А там, глядишь, и дело тронется с мёртвой точки.
Он шёл по главной елабужской улице, почему-то не узнавая её в другом освещении и только видя над крышами домов лесистый кладбищеский холм, искал приметы, по каким, углубляясь в переулки, наконец, смог бы найти дом, мимо которого прошёл вчера дважды и где дважды встретил ту странного вида старуху с папиросой в зубах, которую представила Альфия своей бабушкой. Он узнал столовую на углу, вышел к базару. Где-то там, над рекой, летели полуразрушенные купола храма. Но ни дома того, ни водяной колонки, ни старухи так и не встретил. Не нашёл.
Проплутав около часа, Лыков неожиданно для себя оказался на улице Жданова и ещё раз подивился иронии судьбы: это была дорога к храму! И сам тот в беззащитном, гордом великолепии одинокой старости возвышался в конце пути - на острие километровой стрелы с повисшими на древке серыми избами, неизменным штакетником и купами пыльных тополей. Альберт Васильевич испытал вдруг странное чувство: как будто после долгой изнурительной качки ощутил под ногами земную твердь; необъяснимая, едва ли не провидческая уверенность охватила его и понесла вперёд, туда, где под сенью древних стен ютился домик убиенного гения. Мгновенно вспыхнув, порыв этот тотчас же и был рационализирован сознанием: с какой-то поистине непреодолимой жаждой влеклось оно припасть ещё раз к вечности, оставившей здесь неизгладимый, неуничтожимый, неистребимый след в виде аляповатой мраморной доски с неуклюжей эпитафией. Её - поэта - собственная "дорога к храму" наткнулась тут на развалины и всё же не исчезла, не затерялась, а только остановилась на миг в ожидании отставших и затмившихся душ.
Лыков быстро шёл, почти бежал вниз по улице, к реке, к храму, будто подгоняемый какой-то силой, и странным образом наполнялся радостной уверенностью в благополучном исходе своей маленькой одиссеи. Так бывало с ним часто к перемене погоды: стоило барометру пойти на "ясно", и как рукой снимало хандру, переставала раздражать унылость работы, оживали смутные надежды на что-то хорошее, ожидание благих перемен. Умом понимал, в общем: беспочвенно всё; что-то было сродни действию веселящего газа - ещё немного, и формула мира в твоих руках! - а, пройдя, оставляло одни каракули, что-нибудь вроде "не стреляйте в диких голубей".
С облегчением, которое вряд ли могло быть объяснено какими-то внешними причинами, Альберт Васильевич увидел: и дом, и доска мемориальная на месте. Он замедлил шаг и перевёл дыхание; удивившись самому себе, оттолкнул наваждение коротким смешком. Положив локти на забор, упёрся лбом в сцепленные замком кисти рук и так постоял несколько минут, справляясь с неоправданно тяжёлым сердцебиением. Подумал: как боксёр на канатах. Вспомнилось опять название книги, которую оба они совсем недавно - ещё находясь в покорном друг о друге неведении - прочли и со знанием дела цитировали здесь, у этого жалкого заборчика, преградившего путь к одному из величайших мест на земле: вот уж поистине скрещение судеб! Благодарственную телеграмму Марии Белкиной! - они решили послать её завтра, и вот оно пришло, это "завтра", но, похоже, судьбы чаще расходятся, чем скрещиваются столь счастливым образом.
Из избы вышел и стал на крыльце свирепого вида мужик с чем-то чёрным в руке, похожим на резиновую дубинку. Что ж, это вполне в русском стиле, подумал Альберт Васильевич. Верно, принял меня за пьяного и опасается, как бы не облевали его свежеокрашенное заграждение. И грустно, и смешно. "Пошёл отсюда," - негромко сказал мужик Альберту Лыкову, влюблённому поэту, и начал спускаться по ступенькам.
"Ухожу, ухожу..." - Альберт Васильевич выпрямился, выпустил из рук заострённые пиками штакетины, утвердился на ногах и, в последний раз пробежав глазами по мраморной доске, повернулся и пошёл - к храму. Вернее сказать, ноги сами понесли его туда безо всякого участия мысли. Стоит вообще призадуматься: когда нам плохо - куда можно пойти? Если бог есть любовь, то обретая любовь - обретаешь бога, и всё, что служит его обителью, неудержимо влечёт к себе - будь то "отеческие гробы", или храмовые приделы, или просто святые развалины.
Лыков перешёл по мостику ручей и вновь очутился в вороньем царстве. Солнце стояло уже высоко, оно разогрело кроны лип, зеленоватый сумрак насытился влажной духотой, она клубилась между стволами, ниспадая к земле, бесцветная, но с отчётливо выраженным химическим запашком. Может быть, зной, а может, дурман, нагоняемый с юга заводскими дымами, приморили неугомонное вороньё: оно смирило своё кипение и лишь тяжело ворочалось теперь в перевитых нитями ветвей чёрных узлах-гнездовьях, иногда вскрикивало истошно, кем-то спугнутое со сна, и снова погружалось в наркотическую дремоту. Вчера здесь было всё по-другому. Или то вчерашняя приподнятость озвучила эти руины оглушительным птичьим гомоном, что показался им одой к радости, на деле же был криком о помощи, воплем перепуганной вороньей толпы, гибельной вестью племени двуногих дикарей? Он побрёл к паперти, поднялся по выщербленным обомшелым ступеням и здесь, настигнутый солнцем, заторопился, чтобы укрыться поскорее в тени каменных сводов. И опять нимало не думая о том, что, собственно, заставило предпринять его эти несколько шагов, - явно бесцельных, потому что ведь никогда мыслью даже не приближался Альберт Васильевич к богу, о житии христовом знал понаслышке, и ни разу в жизни переполненное радостью ли, страданием чувство не побудило его к молитве; а если и заходил в церкви, то с любопытством по преимуществу эстетического свойства, столь характерном для склонных к бродяжничеству натур. Впрочем, входя, обязательно снимал шапку и осенял себя крестным знамением, а чтобы не ошибиться и не сделать переклад перстов слева направо, изобрёл даже своего рода мнемоническое правило: припоминал знаменитое "наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", и вот тогда уж точно знал - справа. А существование Бога-творца и вовсе представлялось ему смешной выдумкой, недостойной внимания образованного человека. Одним словом, Альберт Лыков ни на гран не являл собой верующего, и даже не был предрасположен к суевериям, издревле привечаемых полуязыческой Русью.
Ещё когда поднимался на паперть, почудилось ему, что в просвете, точнее, в голубоватой притемнённости разрушенного портала, за ним, внутри, над поверхностью так поразившего его вчера каменного монолита-пола будто что упало вниз, или пролетело бесшумной тенью, отделилось от общей долженствующей неподвижности и, как всё, чему не увиделось тотчас же причины, тронуло где-то на обочине память о причудах окружающей нас - право же, таинственной! - реальности. Вспомнилось, мама в таких случаях говорит: ангел пролетел. Альберт Васильевич улыбнулся даже себе. Однако тяжесть тела перенёс на носки, чтобы не произвесть шума гулкими каблуками и почти подкрался к пролому и, заглянув осторожно внутрь, в искрящийся полусумрак со столбом света в центре, упёртым в купол, к изумлению своему увидел молящегося. Это было настолько неожиданно, что Лыков даже пригнулся и отпрянул влево, в боковой неф, откуда мог наблюдать за сим странным явлением, не боясь, что "явление" обнаружит его. Человек стоял на коленях, спиной ко входу, будто перед воображаемым алтарём, и был одет во всё чёрное, по-монашески, отчего и первой мыслью, которая приступила к нежданной загадке, было: кто? Калики перехожие, монахи-пилигримы, странствующие рыцари, беглые каторжники, старцы-отшельники, гоголевские семинаристы, советские бомжи - осыпью пронеслись перед внутренним олитературенным взором влюблённого романтика, но и отлетели во мгновение прочь, как только чёрный человек поднял руку перекреститься, а сделав это, подался вперёд в низком поклоне, - движения были так легки и восхитительно грациозны, что немедленно вся картина преобразилась и теперь уже без сомнения представляла собой - молящуюся. Да, то была женщина, и, ко всему, женщина молодая, и это уточнённое обстоятельство заставило Альберта Васильевича переменить направление своих догадок, среди коих далее проследовали монастырские послушницы (откуда?), кающиеся грешницы (нечто не от мира сего), матери, оплакивающие детей своих (подходит нам как нельзя лучше), вдовы неутешные... Стоп! - сказал он себе.
Да и прежде чем сказал это, знал уже, знал, держа в подсознании, не давая выхода, глуша всею насочинённой литературой, что живёт в нас охранительной сутью своей и помогает - но и мешает, случается, - дробить мир на отдельные составляющие-корзинки, куда ссыпаются - по смыслам - дела и дни, люди и встречи, красота и уродство, любовь и ненависть, правда и ложь, добро и зло. И ещё всякая мелочь, вроде науки и техники, погоды, политики, стихийных бедствий, катастроф, социализма, водки и цен. Усилиями предшествующих поколений всему уготовано свое место, своя ячейка, задача лишь в том, чтобы найти её правильно, может быть, посредством исторических аналогий, не ошибиться и не наделать путаницы. Чтобы войны перемежались миром, цивилизации расцветали, плодоносили и закатывались, революции сметали старое, отжившее и нарождали новых людей, а те, в свою очередь, верно определяли бы пределы собственного экономического роста; чтобы новые технологии освобождали руки и головы и наполняли сердца блаженством безделья и радостью подчинения, а свобода подлинно стала бы осознанной необходимостью. Язык и слово, говорит Хайдеггер, царят безраздельно, полностью подчиняя себе текст и автора, через которых и посредством которых они творят. Но когда текст - жизнь, а человек - автор, то ему случается открывать новые для себя слова, или самому образовывать их, как говорится, из подручного материала, и тогда текст-жизнь начинает расцвечиваться новыми красками, сверкать и переливаться откровениями, и, бывает, сама повелительница-смерть предстаёт ошеломлённому взору как чудесная тайна жизни.
Нечто подобное откровению такого сорта переживал теперь Альберт Васильевич Лыков, поэт и управленец, стоя за церковной колонной с затаённым дыханием и глазами, вперёнными в молящуюся Альфию. Конечно, это была она! А сам он, пожалуй, сказал бы так: то забытое Слово, Которое Было Вначале, как восковое лезвие входило ему в грудь и плавилось, и разносилось током крови по телу - становясь горячим до слез чувством благодарности. Кому? За что? Он не знал. Но это было неважно. Может, за то, что снова обрёл казавшееся потерянным? Или за Понимание, которым вдруг осветилась вся его предшествующая жизнь, так часто казавшаяся ему никчёмной, растраченной попусту, промотанной? А возможно за Понимание Мира, что вставало далёкой вершиной за грядой ставших доступными вершинок, запечатлевших каждая в облике своём иное чудовище из числа порождённых сном разума. Так часто смотришь на вещи привычные глазу, не замечая их, или не видя их символического смысла, или принимая вовсе не за то, что они есть. Теперь же ему отчётливо стали видны выхоленные десятилетиями тотального рабства упыри, опившиеся кровью вурдалаки, сексоты-лешие, сладкоголосые невежды-сирены, вампиры, облепившие всё живое в его несчастной стране, и главнейший, могущественнейший, древнейший из монстров - Минотавр, воссевший на престоле Империи. И он подумал, что сыновей своих они никогда не отдадут этому мерзейшему из чревоугодников, даже если придётся для этого пожертвовать собственной жизнью.
Чёрная шаль скрывала её голову и плечи и спадала почти до пола. В перекрещенных лучах непрямого солнечного света силуэт казался парящим в воздухе, будто искусный осветитель приподнял его над сценической площадкой, пользуясь эффектами перспективы и выигрышностью фона, которым служило здесь небо и одинокое облачко, повисшее прямо в центре пролома на месте бывшего алтаря. Лыков ничуть не удивился бы, если бы вдруг она поплыла ввысь, вознесение стало бы, вероятно, самым естественным - если тут применимо это слово - концом истории. Ведь нечто подобное в метафизическом плане переживал сейчас он сам: душа его парила уже где-то над той дальней вершиной и если ещё не приблизилась к Богу, то лишь потому, что привыкшее к наслаждениям и комфорту тело покамест держало её на привязи, как держит нить бумажного змея.
Внезапно Лыков почувствовал неимоверную слабость, и жар, и тошноту, и сначала опустился на корточки, а потом, не в силах одолеть приступ недомогания, ставший, по всему, следствием полубессонной ночи, перетёк на колени и дальше вперёд, пока ни распластался ничком у колонны, ощущая лбом и через рубашку всей кожей ключевой холод древних камней. Скорей всего, он просто на секунду потерял сознание, а когда очнулся, то и обнаружил себя лежащим в такой необычной позе. С трудом он приподнял голову и посмотрел туда, где должна была быть Она.
По-прежнему в скрещении света тонко дымился воздух, но храм был пуст. Тогда он снова прилёг виском на объявшие камень руки и почувствовал на губах застывшую в блаженном оцепенении счастливую и совершеннейшим образом - понимал - абсурдную улыбку.

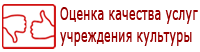
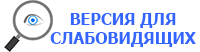

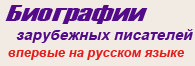
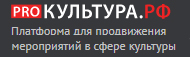

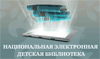


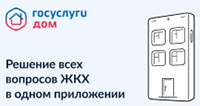





Комментарии
Отправить комментарий