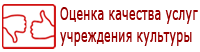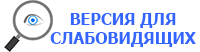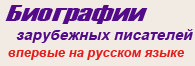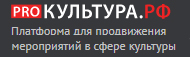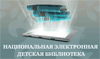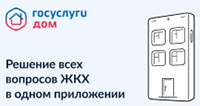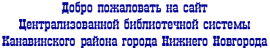
8
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
“Господь мой Возлюбленный! Вот предо мною по глади Озера Святого
идешь Ты, счастливый, издали улыбаясь мне,
и я в слезах гляжу на Тебя и пою: да будь славен вовеки,
Царь земли, Царь Мира, Царь нищей, жалкой души моея”.
Канон во славу Господа св. Ксении Юродивой Христа ради
(РИСУНОК К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ: РЫБА – СИМВОЛ ВЕРЫ В ИИСУСА)
ИРМОС КСЕНИИ О БОГАТОМ ВЛАДЫКЕ
Меня силком затащили на пиршество.
Я не хотела.
Они схватили меня за руки, вцепились в запястья, поволокли. Привели. Стол длинный, овальный, похож на срез дыни. Голый: доски. На досках навалено много еды в богатой посуде. Темное серебро, глаза камней горят в круглых боках потиров. Молчаливые гости, отпивают, жуют. Переглядываются. Важные. Должно бить, знают неведомое. Мне указали пальцем: "Садись!" И, вроде того, помалкивай, как и мы. И я молчу.
И тут входят эти трое.
Два мужика и баба с ними. Один мужик в пышном тяжелом тюрбане, белый лунный атлас наверчен густо над теменем, весь в алмазной пыли. Радужно сверкает; рябит в глазах от искр. Два павлиньих пера заткнуты за большой кабошон надо лбом. Глядит повелительно, победоносно. Тонкие губы изогнуты в улыбке. Давайте, давайте, говорит его улыбка, знаю я хорошо все ваши человечьи игры. А правая рука разливает вино. Горло бутыли наклоняется в сторону женщины. Она сидит недвижно, каменно. Глаза в пол опустила. Полукружья век набухли слезами, бессоньем. Уж такая бледная, будто некормленая. И не ест ничего. Что с нее взять? Зайчишка. И одета вроде меня. Три тряпки – на голове, на плечах, на животе. Скромняга. А другой мужик... жаль мне его стало. Тот, белый снеговой богач, так над ним и торжествует. А он сгорбился за столом, согнулся в три погибели, съежился, скукожился в червячка. Тоже в тюрбанчике, да махоньком; личико все набок, изъеденное, выпитое, утомленное бурями. Щечки почернели, на лбу иероглифы лет. И пальцы рук изогнуты криво и лукаво, как письмена. Никому не прочесть. Наклонился мужичонка лицом над чашей, а не пьет. Отражение свое в вине рассматривает?!.. И гости продолжают молчать. И я смертельно хочу закричать. Заорать. Но рот мой спеленат чужим молчаньем. И я безмолвно, глазами, спрашиваю тех, кто меня привел: это что же это, а?!.. собрали людей для приговора, так не томите, сразу рубите!.. а то, видишь, как мучится маленький человечек, как пристально смотрит в чашу свою – нет ли там, на дне, когда все выпьешь досуха, крупной жемчужины, кольца золотого... а может, там, в вине, змея сидит. И ее язык раздвоенный тебя дразнит. А мне отвечают, и не пойму, то ли тоже молча, то ли еле слышным шепотом: тише, вот гляди, богатый бедного к жене приревновал, и у него власть, у него сила; он сейчас пошлет бедного на смерть, на войну, и делу конец, все равно что вишню съесть и косточку плюнуть. А зачем меня поймали и привели?! – кричу глазами. "А затем, детка, – смеются, – что мы над богатым посмеяться хотим. Сейчас ночь наступит, и мы курочку подменим, ее выкрадем из-под носа, тебя засунем вместо нее. Вот смеху-то будет. Тем более, вы похожи. Как одна мать родила. Он спервоначалу-то и не подметит подмены. Зато потом... Может, у тебя родинка не на том месте!.. Может, ты носом шмыгаешь слишком громко... Ну, и всякое разное такое... И нам интересно посмотреть. Как он будет гневаться. Как будет сумасшествовать, Кулаки сжимать. Ее искать. Звать. Тебя бить. Или кричать тебе в лицо: кто ты, чужая?!.. скажи, где она!.. Убью тебя!.. скажи... Нам охота увидеть его – беспомощного. У него слишком много власти. Есть только один способ уничтожить человека владычествующего: отнять у него то, что ему кровно принадлежит. Смотри!.. смотри, как он сейчас беднягу раздавит... Неужели ты не хочешь помочь нам раздавить его?.."
Я глядела во все глаза. Белый, алмазный, выпрямился над столом, сверкая, и протянул руку с вытянутым пальцем. Иди, мол, ступай. Червь. Черепашка. Иди, умри за меня. Если ее любишь – умри за нее. Бедняк ниже нагнулся над чашкой. Пригубил. Выпил все. До конца. Не глядя на сидящую обочь, встал. Коленочки тряслись. На согнутых ногах поплелся, поковылял прочь от стола. Куда его послали?.. А, на смерть?.. А что такое смерть?.. Люди не знают, что она такое. Они не знают, что там будет. Догадываются? Вряд ли, Слухи ходят, бродят по земле, перепрыгивают пропасти столетий. Все чепуха. Никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать. Да и языка такого нет, чтобы рассказал – и все поняли, что там и к чему. Поэтому властный человек в белых атласах и алмазах, тот, который любит ту, что я люблю, и думает наивно, что он меня убирает со своего пути. Я просто гораздо раньше него окажусь там, где и он будет и мы все окажемся. Не думаю, чтоб там было уж очень худо, Что, если... там колышутся белые хвощи и цветут алмазные снежные пальмы, касаясь наших глаз и губ?.. И там я все равно буду ждать ее. Я, а не он. И я дождусь. Дождусь.
Дверь приоткрылась, впустила маленькое тщедушное тельце, втянула в черную щель. Хлопнула, выстрелив пустотой. Вот и все. Он ушел. Ненужный. Лишний. Маленький сумасшедший, любивший женщину, жену вождя и владыки. Ушел безропотно без борьбы. Без боя. Сказав нам всем, гостям в этом мире, сгорбленной спиной: все бесполезно. Не надо напрягаться, выкручивать тряпкою душу. Людское поведение есть не что иное, как Вышняя Воля. И тот, кто возлюбил не женщину, не мужчину, а пустоту, тот счастливее всех.
Мужик в алмазах и та, что так и не подняла глаз, встали. Поднялись, зашумев креслами и скамьями, все гости. В сутолоке и свалке жену рванули прочь от мужа, меня воткнули ему под мышку. Спешно гасили факелы и свечи. Кто-то глупо дунул на сиротливую лампочку над столом, качавшуюся на скрученных проводах. Кто-то, хихикая, разбил чашу, завизжал: на счастье !..
Меня и богача в наступившей мгновенно тьме втолкнули в комнату, где жалкий свет, подобье света, сочился от деревянных стен, от ослепших окон. В углу каморки валялся полосатый матрац, перепачканный масляной краской. На матраце спал человек в грязных штанах и рубахе. Он спал ко мне спиной. Он бормотал во сне. Он зачмокал во сне сладко, хотел перевернуться, но не смог. Он был пьян; может быть, у него не было больше сил жить. Я уставилась в его затылок. Я знала этот затылок. Я могла поклясться; перекреститься. Богач сжал мою руку и проговорил глухо и сердито: "Видишь, жена, наше место занято. Сейчас я всыплю за это дело кому следует". Я остановила его движеньем руки. Приблизилась к лежащему. Я хотела его повернуть к себе лицом, но боялась. Я боялась закричать от ужаса и счастья и кинуться на спящее тело всем телом, припасть к нему и уже не отлипнуть. Спящий человек согнулся на матраце, повторяя позу младенца в утробе матери. Где мой сын, подумала я страшно, где мой сын? Я убью тех, кто отнял у меня моего сына. Ну и что, сказал мне смеющийся голос внутри, ты найдешь их и убьешь, и это значит, что они просто раньше тебя придут в то счастливое место, где цветут и качаются алмазные, белоснежные хвощи и папоротники. И они будут счастливы, а ты будешь еще целый век тут страдать. Лучше разбуди спящего и попроси его задушить тебя. Ты слишком настрадалась. Пора отдохнуть.
Человек на матраце застонал, задергался и перевернулся сам, без помощи, на спину, потом – ко мне лицом.
– Юхан!.. – закричала я и закрыла себе рот рукой, захлопнула, как дверь.
Белый владыка, богач, отшатнулся от моего голоса. Чужой визг разрезал его сердце пополам. Он не ждал подвоха. Он пнул меня под коленки, и я упала на матрац ничком, прямо на спящего.
Богач что-то кричал на незнакомом языке, я понимала: взять их, люди, где мои люди, связать их, выбросить их вон, выкинуть их совсем отсюда, из моей жизни, это злой умысел, это бродяги, это мусор жизни, это чешуя, пусть летят по ветру, живо, люди, где вы, я жду, а где моя жена, вернуть мне мою жену, враги, у меня есть враги, они насмеялись надо мной, о бедная, милая жена моя, где ты, а тут это отребье, эта грязь земли, эти жалкие людишки, быстро уберите их, чтоб духу их здесь не было, швырните их в пропасть, бросьте в колодец, киньте на съедение рыбам, птицам в горах, иначе они мне будут сниться, сниться, они доведут меня до могилы, а я жить хочу, жить хочу, жить хочу. Жить!
Так орал, брызгая слюной, богач, усыпанный алмазами, и тюрбан катился с его потного лба, и под изогнутыми губами светились черные дырки гнилых зубов, он был уже старый, он уже боялся смерти, а тут у него утянули из-под ладони пойманного махаона, самый крупный алмаз похитили, а булыжник подсунули; и он, возмущенный, дергался и визжал, а я стояла и смотрела на матрац, где лежал и спал мой Юхан, а может, я стала слепнуть и стареть, и видела плохо, и это был совсем не Юхан, но мне так хотелось, чтоб это был он, и глаза мои дрожали и блекли, и меркли, и гасли, как факелы на пиру.
Я хотела еще раз позвать его по имени: “Юхан!" – но рот мой слипся, не разомкнулся, как крепко сшитый грубыми стежками, я хотела разрезать силки, да ножа не было; мое тело узнавало его, я прижималась к нему, я стонала ему в ухо: видишь, муж мой, какой я стала бродяжкой, как меня бьют и пинают, как мне плохо в дольнем мире без тебя, а тебя, значит, не убили, если ты лежишь тут и спишь, – как внезапно набежали люди, позванные богачом в тюрбане, схватили меня, понесли, потащили, выбросили через черную подвальную дверь на яркий снег.
Сколько в мире зимы, подумала я, лежа на снегу спиной и глядя в синее небо.
Сколько в мире зимы.
И я, ее житель, должна обживать ее, обихаживать, убирать, мыть ее ледяные полы, устилать скатертями, уставлять посудою ее широкие столы, сдувать ветрами крошки, локтями стирать грязные потеки со слепящей белизны. Юхан не умер. Он просто замерз. Он лежал все это время в большом сугробе. Кто-то разгреб сугроб живыми руками. Кто-то: такой же горячий, такой же неистовый, как я.
Я заплакала. Я подползла к черной закрытой двери. Я долго стучала, кулаками, ногами, грудью, головой. Мне не открыли.
СТИХИРА КСЕНИИ О НЕВОЛЕ ЕЯ
Я начала делать странные дела.
Я собирала везде разные бумаги. Где они валялись; где летели по ветру, и я ловила. Салфетки в харчевнях и трактирчиках; обрывки газет; клочки выброшенных на задворки школьных тетрадей; ненужные хозяйкам выкройки, торчащие из старых сундуков и диванов, выкинутых из мертвых домов. У меня была бумага, и я начинала на ней писать. Слюнила карандаш. Поднимала с земли уголек. Морщила лоб. Буквы горели. Прыгали. Улетали из-под руки. Я не понимала, куда; я ловила их, как птиц, и они бились в моих кулаках. Однажды я нашла старую наволочку и углем написала на ней:
У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ЛИЦО
У БОГА ЕСТЬ ЛИК
У ЗВЕРЯ ЕСТЬ ЛИЧИНА
Я ЗВЕРЬ Я БОГ Я ЧЕЛОВЕК
Я ВИЖУ ГЛАЗАМИ МИР
Я ВИЖУ СЕРДЦЕ И ВРЕМЯ
ВЫ УБЬЕТЕ МЕНЯ НО НИКТО ИЗ ВАС
НЕ НАДЕНЕТ МОЕ ЛИЦО
НЕ НАДЕНЕТ МОИ КРЫЛЬЯ ЧТОБЫ ЛЕТЕТЬ
Я понимала: кроме каждодневной добычи еды, кроме любовного голода человека мучит еще одно, кровное. Куда пойдет его душа после смерти? Есть ли конец непреложный? Уход окончательный? Или есть счастье продолженья? Страданье длящегося? Эту, нашу, родимую жизнь всяк живет лишь раз. А дальше что? Я знала хорошо, ЧТО. Я жила между временами, я свободно гуляла в пространствах. А может, это было только для избранных? Только для меня, которой небесная Гостья-красавица когда-то надела на шею синий крестик? А может... может, мать все это выдумала, и сама она, Елизавета, сняла дрожащими руками в больничной палате, помывши полы хлорной тряпкой, цепочку с бирюзой с морщинистой, старой и мертвой шеи, пока умершую старуху не отправили в безымянную могилу для безродных и неизвестных на дальнем кладбище?.. Мама, мама. Что ты знала обо мне. Лучше бы твоя красавица завернула меня тогда в мешок да и бросила с обрыва в широкую реку.
Я писала на бумажных клочках о том, что будет с людьми, с каждым из людей, после смерти. Я разбрасывала эти клочки везде – на улицах, в харчевнях, на рынках, на вокзалах, на скамейках в парках и скверах, на бесконечных лестницах унылых домов, черными и серыми свечами уходящих в дымы неба; люди, кто, плюясь и чертыхаясь, кто смеясь, кто осторожно и боязливо, подбирали мои слова, читали их, узнавали свою судьбу: каждый – свою. Кого-то била дрожь. Чьи-то глаза расширялись и светлели. Человек больше всего на свете боится неведомого; а я говорила людям о неведомом, чтобы они перестали бояться. Чтобы полюбили то, чего боялись всегда.
Люди хватали мои листки. Спешно уносили с собой. В сумках. Карманах. За пазухой. Кто рвал, ощерясь. Кто, скомкав, кидал в грязь и ногой наступал. Растаптывал. А я вставала там, где народу было гуще всего – в подземных переходах, в скоплениях торжищ и толкучек, на станциях, где гремели отломанной жестью железные повозки – и совала, совала людям листки в руки, раздавала, разбрасывала их, как разбрасывают птицам зерно или крошево хлеба, пшеницу или пшено, и люди ловили их, и жадно читали, и внимательно глядели на меня – кто злобно, а кто с восторгом и любовью, – и однажды я стояла у подземного зева, выпускала на волю своих птиц, а тут из толпы на меня хвать! – налетели, двое, трое, много, не помню, руки связали за спиной, и уже везут, и что опять в новой жизни, полной новых страданий, со мною будет?!
Тьма трясущейся на колесах клетушки. Решетчатые оконца над головой. Конвоиры. Лица непроницаемые. Личины? Морды? Чью волю выполняют? Кому я опять понадобилась?
– Куда вы везете меня?
На вечном холоду выстыл мой голос, обратился в птичий хрип.
Сначала молчание: не удостоить ответом бродяжку. Потом короткий смешок.
– В тюрьму.
– За что?..
Снова молчок. Думают, что ответить. Не хотят говорить. Лень. Дура, сама не понимает, все ей разжуй.
– За крамолу.
– Что такое... крамола?..
Я думала, это краска такая, наподобие Юхановых, ярко-красная, похожая на сурик.
Они захохотали надо мной. Заржали, как кони. Смех ударялся, ломался и разбивался о черные стены зарешеченной кибитки.
– Это, дура, когда ты размножаешь и раздаешь людям опасные вещи. Ну, опасные. Ну, такие.. от которых им беспокойно. Плохо им. И они могут взбеситься. На власть попереть... или что еще похуже. Короче, забурлить и вскипеть люди могут. И вина на тебя ляжет. Что ты их подстрекала. Ясно?
Повозку подбрасывало, трясло. Дороги. Камни. Булыжники мира.
– А в тюрьме... не пытают?..
Я вспомнила больницу и содрогнулась.
Конвоир, тот, что ближе ко мне сидел, вынул из мятой пачки сигарету, закурил и дыхнул на меня колючим сизым дымом.
– Правильный вопрос. Всякое бывает. Когда и побьют. Это у кого какая звезда... знаешь. Бывает, у человека и вины нет никакой особой, а замутузят его до смерти. А бывает... убийца... и лучше короля там восседает. Это как повезет. Девкам там худо. В особенности смазливеньким. А ты... – он, затягиваясь, презрительно оглядел меня всю, – кожа да кости... ни один надзиратель не польстится... но издеваться будут, к этому ты готовься... Оттуда не выйдешь так запростяк...
– Вам приказали меня изловить?
Я хватала табачный дым пересохшими губами. Я так хотела пить. А до воды было еще так далеко. Так долго. До живой, чистой воды.
– А как же. Власти и приказали. Давно за тобой следят. Больно ты заметная. Легенды про тебя ходят в Армагеддоне. И в других местах тоже про твои фокусы наслышаны. Опасная ты девка. Опасная! Спрячем мы тебя. Чтобы ты носа не высовывала долго. Чтобы смирненькая стала. Приличненькая. Как все. Как все, слышишь?!..
Я хорошо слышала.
............... со слухом у меня было все в порядке, я слышала звуки и тоны и прекрасные мелодии, я слышала угрозы, обращенные ко мне, и визги заключенных в камере; слышала, как сопят, хрипят и дерутся; слышала множество нелепых и жестоких приговоров, обращенных ко мне и не ко мне; слышала плачи и стоны, и пугающие беспрерывностью хохоты; слышала, как поворачиваются ключи в замках, как лязгают цепи и затворы; и еще много чего несказуемого слышала я, а вот со зреньем что-то творилось, сизая пелена застлала мои зрачки, и я подумала, что вот, свершилось, это насовсем, ну и хорошо, так и надо, и вот теперь, когда я лишилась земного зренья, я наконец-то провижу НАСТОЯЩЕЕ, – и внезапно серая мышиная пелена перед глазами зашевелилась, затряслась, заколыхалась и разъехалась в разные стороны, и серые крылья распахнулись и отошли, и в ясном прогале, уходящем в бесконечность, я увидела:
ТРОПАРЬ КСЕНИИ О ВИДЕНИИ КОВЧЕГА
.............старые, старые доски. Баржа. Огромная. Гигантская. Серо-зеленая северная вода слоится, горит изнутри тусклым маслом. Баржа плоская, только на ней почему-то из бревен сколоченный дом стоит, глядит в воду: зачем дом?.. может, там живут плотогоны, речники, прячутся от дождя, варят обед?.. Баржа еле движется. Течение слабое. Течения вовсе нет. Нет и берегов. Возможно, это море. Вдоль плоской водяной серебряно-зеленой доски дует ветер, встопорщивает зазубрины и занозы ряби. Ветер! Ветер! Вот твои тучи. Они набухли звериным молоком; звериным воем.
Доски надо мной, над моими глазами, лбом. Оглядываюсь. Поворачиваюсь: трудно. Кости болят. Я – в трюме? Темно. Душно, смрадно. Пахнет зверьей мочой, остро и мучительно, так, что не выдохнуть. Рядом со мной, обнявшись, спит чета медведей. Озираю полутьму трюма. Все вокруг зверье. Бездна разного зверья. Звери спят; кто-то, ночной и бессонный, горящими глазами пристально смотрит во мрак. Две козы поодаль бодаются во сне. Много диких кошек. Иные дремлют, развалившись, друг на друге, иные пронзают оранжевыми, изумрудными точками зрачков опасное пространство. Куда нас всех везут? Звери терпят. Звери молчат и спят. Ни воя. Ни вздоха. Ни хрипа. Ни хрюканья. В ящиках вдоль трюмных стен спят вперемешку куры и павлины, голуби и туканы. Чешуя холодит мне бок. Питон. Он спит, свернувшись в тугое кольцо. Я вздрагиваю. Мычат быки? Нет, они спят. Это волны бьют под широкие доски днища. Это цепи, черные цепи скрипят.
Сколько зверья. Я задохнусь. Трюм наглухо задраен – шторм нас не потревожит. Заклепы, замки. Я одна – человек среди зверей? Как тихо спят волки, серые и красные. Вся стая. Волк показывает во сне клыки. Зверь режет клыками другого зверя для того, чтобы выжить: съесть теплое мясо, накормить детей. А мы? Мы делаем так же или иначе? Зачем мы убиваем? От кого мы, убивая, спасем сами себя? Нет, я не боюсь. Я могу плыть так со зверями долго. Всю жизнь. Есть ли у них еда? Не перегрызут ли они друг друга? Пока они спят, все мирно. А что будет, когда они проснутся? Где корзины, где коробки с едой для зверей?!.. Встаю; пробираюсь через зверьи тела; ищу, рыскаю, перекатываю по углам мешки и матросские веревки, запасные кнехты и швартовы. Ничего подобного еде. Нигде. Они умрут. Они умрут, мои звери, не доплывут туда. Куда? Куда мы все плывем?!
Кашель. Стариковский кашель. Господи, тут кто-то живой, человек! Человек... Какая печаль... Значит, человек – это не зверь... это -другое... он другой... он не с ними... он иное созданье, хоть в нем и красная кровь, и глаза у него, и уши, и все внутри и снаружи так похоже на ваше, о звери. Человек, человечек. Он кашляет, глухо, в кулак. Старик. Я вижу его. Он в балахоне, в мешковине, похожей на мою, пробирается меж спящих львов и тигров к стоящим у стены длинногорлым сосудам. В них вода. А может, вино. А может, мука. А может, они пусты, там, внутри, пустота. И ты отольешь себе пустоты и отхлебнешь пустоту. "Эй, старик! – зову я его. – Это твои звери?" Он кивает головой, бредет ко мне. Вот я вижу его совсем рядом. У него лицо, похоже на зверью морду. Это морда старой собаки, старого медведя, старого моржа. Толстый нос, смуглый морщинистый лоб, седые густые усы, свисающие собачьими брылами щеки, глубоко посаженные печальные глаза, горящие, как у волка или барса, смотрящие мне прямо в душу. "Это мои звери, – говорит он строго. – Я спасаю их. Тут и семьи, и стада, и стаи. Люди здесь не должны быть. Где пряталась ты, когда загружали зверями баржу?.. Под брюхом у леопарда?.." – "Он бы загрыз меня, – смеюсь. – И под животом у слона я бы тоже не могла спрятаться. Он бы меня затоптал. Я не пряталась. Мне нечего прятаться. Я сама по себе плыву".
Старик задумался. "И ты одна плывешь?" – "Одна. Совсем одна". Он будто не поверил. "Как – одна? А не врешь?.. Может, кто тут еще под тобой спрятан?.." Он хохотнул. "Нет никого". – "И что же ты будешь делать теперь?" – "А что я должна делать, старик?" – "Как – что? – Он даже обиделся. – Жить. Как же ты будешь на свете жить одна?"
Звери ворочались, кряхтели, вздыхали во сне тяжко и длинно, как люди, как усталые старики, прижимались друг к дружке, источали запах влажной свалявшейся шерсти, звериной неги, нежности, охоты и крови. "Почему, старик, ты спрашиваешь меня об одиночестве?.. Людей на свете много. Я много их встречала; и умных и глупых; и добрых и злых. Одни меня убивали; другие любили меня, крепко любили меня. А я любила всех и пыталась излечить всех и всем помочь. И еще столько же людей я встречу; и опять одни втопчут меня в грязь, а другие воздымут до небес, и всем и каждому я помогу, согрею, утешу, волью в рот каплю воды, всуну кроху хлеба. И после этого ты говоришь мне об одиночестве? – Я рассмеялась. – Мне бы одной побыть. Мне бы отдохнуть. Вот я открываю глаза, просыпаюсь – а тут снова вокруг меня толпа, на сей раз зверья. Все лучше; они бессловесны хотя бы, не обидят, не разрежут сердце убийственным словом. Они боятся пули и ножа, да ведь и я, старик, их тоже боюсь. И всякий их боится. И мы боимся зверей, а звери боятся нас. И вот я среди них, и вот я опять не одинока. Они, бывает, роднее людей. Ласковые. Нежные. Пушистые. Головой в колени ткнутся, руку лизнут. И это их счастье. И это мое счастье, нежнейшее, нежели людское. А ты говоришь..." – "Я говорю тебе! – Он возвысил голос. – Я спрашиваю тебя! Есть ли у тебя пара! Есть ли муж у тебя! Сможешь ли ты, когда... – голос его пресекся, и он закашлялся... – когда мы высадимся на пустынный, безлюдный берег, зачать, выносить и родить?! Есть ли у тебя тот, кто заронит в тебя живое семя свое?!”
Звери, лежащие кучами, бревнами, комками сбитой шерсти, не шевелились. Баржу качало на широких волнах. Меня тошнило. Я поняла – плыть предстояло долго, и конца и краю не было водной холодной пустыне.
"Куда ты везешь зверей?" – напрямую спросила я.
"К новой жизни", – ответ пронзил меня быстрее пули.
"А старая была, что, плоха?.."
"Старой больше нет. И не будет никогда".
"А может.. и новой никогда не будет, старик?..
Он сел на корточки. Заплакал. Уронил мощный морщинистый лоб в ладони. Долго так сидел, сотрясаясь в рыданьях.
"Не говори так, одинокая. Я спас их всех. Они бежали ко мне с гор, с пастбищ, из чащоб, когда беда надвигалась. Я ладил баржу на берегу. Они все спешили ко мне. Я знал звериное слово. Одно-единственное. Я повторял его на все лады. Я говорил им одним словом: не бойтесь! Я с вами. Я вас спасу от смерти. Я построю вам большую лодку. Дерева на берегу много. Топор при мне. Я старый корабел. Я знаю, как крепить и ладить друг к дружке доски. И они помогали мне. Они тащили мне сваленные деревья в лапах, зубах, на горбах! Хоботами и клыками и тощими ребрами толкали ко мне стволы, распилы! И я работал как зверь! Пот летел с моего лба, искры летели из-под моего топора! Я сладил хорошую баржу, крепкую баржу, все звери поместились. А гул надвигался. Земля хотела расколоться и выпустить из разлома огонь и воду. Они выли и плакали. Они кричали мне на своем языке: скорей! Скорей! Хотим жить! Жить хотим! И, ты бы видела, одинокая, как я толкал их на борт, как я спускал их в трюм, как гладил их по загривкам, как любил их медвежьи, волчьи души, как целовал им носы и лапы, как кормил умирающих птенцов – изо рта в клюв! Ты искала им еду, я знаю... Там, на палубе, – мешки, ящики еды... на все зверьи и птичьи вкусы... А дом... Срубовой дом, там, наверху, на барже... Это знаешь для кого?.. Для детенышей... Для... младенчиков зверьих... чтоб им... тепло... было...”
Старик зашелся в рыданиях. Я утешала его как могла: взяла лысую голову и прижала к своему животу, и гладила потный смуглый лоб и седые космы, и целовала его в темя, и шептала добрые, ласковые слова, какие знала. Он плакал неутешно.
"А ты говоришь... новой жизни... не будет!.. – Он дрожал как зверь, утирал нос ладонью. – Как же не будет, когда они все... молодые, сильные... от них пойдут хорошие, крепкие детеныши... и земная жизнь продолжится... и род Орла возродится... и род Коня еще прославится... Неужели их всех опять... – он забился, сморщился от слез, махнул рукой, – опять убьют?!.. Несчастные!.. Несчастные они... но и мы несчастные тоже..."
"Не убьют. Не посмеют. Ведь ты же их спас".
"А что я?.. Безвестный старик. Сумасшедший. Звериный бог".
"Не плачь, – утешила я его, – я тоже сумасшедшая".
"Ты-то!.. – снова рукой махнул, – девчонка... Женщина... Тебе бояться нечего.. Мы тебе найдем всегда царя... быка, коня, кулана... И он вспашет тебя, одинокую..."
"Не надо мне царя. Я сама дочь царя. Дочь царя Волка".
"Воистину сумасшедшая! – Старик мелко захохотал, и внезапен и страшен был переход от слез к смеху. – Каково!.. Она дочь волка и сама волчица, значит!.. Ну так давай мы тебя за волка и выдадим!.. А?!.."
И он схватил меня за руку и потащил к спящей волчьей стае, и вожак во сне наставил на меня уши и дрогнул всеми лапами, и старик указал мне на него, смеясь: "Вот этот... твой повелитель будет", – и я забилась, хотела вырваться, но старик держал меня крепко, цепко, и волк уже проснулся, уже втянул ноздрями воздух, а, человечий дух, свежее мясо, боится и дрожит, – и я изо всех сил крикнула старику в ухо:
" Меня нельзя выдавать ни за кого! Ни за зверя, ни за человека! У меня есть муж!"
"Где, где он?! – изгалялся передо мной старик, а слезы на его щеках кварцево блестели. – Ну, где он? Покажи! Нет его! Нет его здесь! Умер он давно! И косточки его звери давно изглодали! Выдумка твоя! Чтоб отделаться! Нет, живой не уйдешь, волчица!"
Я приблизила лицо к лицу старика, услышала чесночный запах из его древнего рта, ощутила на своих щеках его щетину и сальную курчавость седой редкой бороды, рассмотрела щетки его белых усов. Потянула его к себе ближе, поманила пальцем, показала в дальний угол трюма.
"Сам врешь. Вон он, муж мой. Лежит и спит среди зверей".
Старик напряг, сощурил подслеповатые глаза, силясь всмотреться и различить.
"Там?.."
"Да. Идем туда. За мной. Разбудим его. Спит муж мой. Разбудим его и скажем ему: вот, жена твоя пришла, скитальная волчья дочерь, прими ее, не погнушайся. Если ты ее забыл – вспомни. Если ты ее захочешь – возьми. Он обрадуется. Он давно меня не видел. Идем скорее, пока звери спят. Идем!"
Я бормотала без устали, без остановки, бред рос и ширился, я волокла старика через зверьи спины, мешки и канаты во мрак вонючего трюмного закута. Мы катились через зверей, чертыхаясь, цепляясь друг за друга, сдирая когтями кожу друг у друга с рук, проклиная друг друга, пока не оказались во тьме, и даже волоска белой бороденки старика я не могла бы разглядеть. Я все это придумала на ходу, про мужа, я испугалась, что старик бросит меня волкам, а они не почуют свою кровь, да и слова звериного, одного-единственного, я не знаю; вот я затащила его сюда, а он старый, больной и немощный, и мне ничего не стоит побороть его, вот, сейчас я могу его повалить, а что, если я притворюсь возжелавшей его, его, старого, больного и немощного, изморщенного, седого и иссохшего, да он ни за что в жизни не поверит, но люди всегда верят во все, и чем невероятнее, тем сильнее вера, сейчас я привлеку его к себе, поцелую воняющий чесноком рот, лягу на пол и повалю на себя сухие, остро торчащие кости, и он тяжело задышит, и это он теперь будет вырываться, испугавшись, потому что нет уже в нем, старике, зверьей силы, покинула его навсегда сила медвежья и волчья, и он забоится своего человечьего позора и несчастья, горя времени и жизни, а я буду, как нарочно, шептать ему в ухо горячие слова, разжигать, подзуживать, сминать его в молодых объятиях, – и он понял это, он уже сам хочет вырваться из моих рук, и он шипит мне в ухо по-змеиному: "Так это я, что ли, муж твой, шутница, волчица зубастая?!.."– а я отвечаю ему: "Так темно здесь, а я сильнее тебя, я сейчас тебя повалю и задушу, и никто не узнает никогда, здесь же одни звери, а я сама доведу баржу до берега, я с большой реки родом, я знаю, как гнать плот, как вести лодочный караван, я останусь одна со зверями, женщина и звери, к это я спасу их, я, а не ты!.. и мне достанется, старик, вся жалкая слава твоя..." – а он уже обнимал меня жалобно, просительно так, жалостливо, он уже на жалость бил, он уже просил меня, умолял: "Погоди, ну, погоди же, я пошутил, н сам не хотел, я буду хранить тебя, я буду тебе отцом, братом, другом, я буду твоей постелью и твоей миской, я буду твоей ложкой и твоим нагрудным украшением, только не убивай меня, я же не зверь, чтобы на меня охотились и убили меня, я человек, я... ЧЕЛОВЕК!.." – а я говорила: "Как здесь темно, душно, зажечь бы свет, хоть лучину, хоть язык свечи, хоть хвост каната, а то, может, шерсть из волчьего хвоста моего жениха выдерем да подпалим?!.." – и старик радостно закивал, он обрадовался, что я хочу света, он с готовностью сгорбился, ища на полу, что бы зажечь: "А вот вобла, сушеная рыба, жирная!.. она хорошо горит, не знаю, чем бы подпалить..." – и я взяла вяленую рыбину в руки, и она загорелась сама собой, запылала; и старик в ужасе отшатнулся, завопив: "Колдунья!.." – на что я ему ответила надменно: "Если будешь хныкать, на месте этой рыбки окажешься", – и вобла горела как факел, как яркий жертвенный факел, как смоляной факел, с которым гонцы бегут в ночи, и в рвущемся в духоте и вони золотом свете я и старик, мы оба, вцепившиеся друг в друга, увидели, что в углу трюма спит человек, повернувшись к нам спиной.
Он спал, поджав грязные ноги, он опять спал, почему он все время спал, как будто не успел, не смог выспаться на том свете, на том или на этом; серая рубаха, бывшая когда-то белой, грязная и тюремная, и на замызганной ткани, на спине, два красных пятна; поближе наклонюсь, зажму рот рукой, чтобы не захохотать и не заплакать: это два сердца, два красных сердца, намалеванных масляной краской. "Юхан, Юхан!.." – кричу я, обмирая, с гирькой холода в животе, с волной холода в груди, а старик скалится, его пасть полна сломанных в давних драках зубов, он цедит насмешливо: "Ну и имечко у твоего дружка, так вас тут двое на баржу пробралось, тоже захотели шкуру спасти, все рассчитали, кроме моей баржи ничего не вычислили, муж он ей, да кто вас за ноги держал, приблудный пес, урка, жиган твой дружок, я таких, как он, в свое время... в свое..." Старик опять закашлялся. Он не выносил воспоминаний, как все старики. "Ты же сам говорил... – я задохнулась от обиды, – что для меня подыщешь пару! Что надо плодиться! Размножаться! Что все на твоей барже парами плывут! Что ты так на меня уставился! У тебя расческа вместо зубов! Не укусишь! А это муж мой, Юхан, спит! И пусть спит, отдыхает! Только посмей его разбудить!.."
"А вот и разбужу, а вот и разбужу!" – закричал старик и ткнул спящего в бок ногой. "Вставай, собака!"
Он не собака, он человек, хотела я сказать, обернулась и обомлела. Вместо скорчившегося Юхана на подстилке в трюмном закутке лежал огромный пес, из тех, кого крестьяне держат при стаде за пастуха. Старик остервенело толкал его в мохнатый бок носком стоптанного башмака.
“Пес, пес, – сказала я горько, – и я люблю тебя. И ты прости этому человеку за то, что он тебя бьет. Бьет – это тоже значит любит".
................ты, фраер, отвали от нее, не видишь – она слепая.
А что? Задрало?
Ты, соглядатай, гляди-гляди, да не забудь пасть прихлопнуть. Едало утри, кости повыбью.
На, бей меня! Меня! Только ее не бей! Она же кошка! Маленькая кошечка!
Вошка она, а не кошка, одной больше, одной меньше.
Эй, надзир, не суйся сюда! Еще каляпы протянешь – без манной каши отожмешься!
Эй, эй, дура слепая, долго еще будешь в слепырки играть?! Девочка-девочка, нехорошо обманывать. Еще проволынишь – мы тебе буркалы ножичком вынем и искусственные вставим, из бутылочного стекла, чтоб красивше было.
Как ее звать?.. Глафира?.. Манька?..
Ксенька, Прыщ брехал.
Ксенька! Ксенька!
– Ксенька, очнись!.. Ксенька!.. на воды. Черт, язви ее, по подбородку льется, а в нее ни капли не попало. Всю залил водой. В уши ей натекло. Ксенька, тебя опять бить идут!.. мы тебя спрячем, мы тебя закроем отлично, все будет в ажуре, эй, ерши, бросайте на нее халаты, тряпки, сапоги, ложитесь на нее, давите ее... лучше позадыхается немного под нашими костями, чем опять допрос...
Она открыла глаза. Бесполезно. Серая пелена. Снова закрыла. Серый дым клубился, рос, метался серой мулетой. На губах вкус селедки. Это вкус крови, она знает. Не может быть, чтобы ее накормили селедкой. Это деликатес в тюрьме. Все равно что черная икра. А Прыщ говорит, это самая дешевая пища для заключенных. И самая мучительная. От нее пить хочется, а пить не дают. Так изобретают еще одну пытку. И не подкопаешься. Зачем они ложатся на нее? Какие тяжелые тела. Они живые. Они костлявые, смеющиеся, рыгающие, гогочущие, потные, холодные. Они едят так мало; почему они так тяжко задавили ее? Тел много. Они ложатся друг на друга, как бревна. Они погребают ее под собой. Она задыхается. Воздуху. Воздуху. Это новая пытка. А они клянутся, что хотят ее спасти.
– Заключенная Ксения, фамилию не назвала, встать!
– Нет ее! Кролик сдох!
– Как это понять "сдох"?!.. Тело взять! В морг!
– Отзынь ты со своим моргом... сбежала она!
– Повтори еще. Повторяй это много раз и каждый раз давай мне червонец, когда я буду это слышать.
– Ша, ребята!.. что-то тут подо мной такое... шевелится... колючее!..
– А это у Ксеньки кожа на животе, как рашпиль, всего тебя исколет, будешь знать, как по молоденьким уточкам елозить... Ну, если тебе повезет, ты можешь там, втихаря, ей... пока куча мала вся возится...
– Да все, кранты, опенки, она не движется, не дышит, она уже лежит без сопения... как мертвяк...
– А-а-а-а-а!.. Тру-у-у-у-уп!..
– Во орет, глотки не жалка Глотка казенная.
................она проваливалась, исчезала, снова появлялась. Ветер гулял в ее волосах. Мыл ей широкие скулы, щеки. Осушал слезы. Ей надоело реветь. Она решила, что не будет реветь даже тогда, когда ее будут, ну, вдруг такое случится, распиливать пилой надвое. При этом надо петь песни и хвалить пильщика. Надо раскорячить ноги, чтобы палач видел женскую прелесть; женская прелесть находится внутри сжатых крепко бедер, когда их разведут, можно обнаружить, что кожа невидимых ног выше от колен нежнее перламутра, белее теплее жемчуга, за которым ныряют в далеких восточных морях узкоглазые девочки; если самый жестокий человек мира будет глядеть на эту красоту и трогать ее, гладить и вдыхать, а осмелясь, и целовать, то бросит он прочь любую пилу, любой топор, поднимет прелестную женщину на руки и бросит ею вызов смерти и жестокости. Ха! А продолжают убивать. И надвое распиливать – продолжают. И, Боже, как я хочу быть красивой. Ведь я же, должно быть, уродка. Ведь красавиц не пытают, их не связывают веревками, не душат удавками. Я ненавижу, когда придушат, а потом отпустят. Уж лучше бы сразу. Я не медный маятник. И у меня есть гордость.
Ах, гордость была у нее. И она умела скакать на коне. Это было так странно. Будто она сидела на облаках, а огромный ветер нес ее вместе с облаками над землей, земля была далеко внизу, и хвосты ковылей неслись по ветру. Дикие ее волосы шумели за плечами. Ветер бил, как в бубен, ей в лоб, в грудь и живот. Живот ее был бубен, и пронзительный колокольчик висел у нее внизу живота. Женщины вплетали себе в тайные завитки волос, туда, между крепко сжатых ног, речные жемчужины и красные кабошоны яшмы. Это считалось красивым и прельстительным для воина – жениха, мужа. Девственницы тоже делали так, хоть их ухищрений не видел никто. Она подъехала на коне к царю. "Почему на тебе венец в виде турьих рогов? – спросил Царь, – ты же не девственница. Многие мужи нашего племени пояли тебя". Она усмехнулась. Гордость и жалость забились прибоем крови на ее лице. "Я имею право на такой головной убор. Я его отработала. Собой". Под царем играл гнедой конь. Она сидела на вороном. "Было много перерождений?" – строго спросил Царь. "Ровно тысяча. У тех, кто перевалит за тысячу рождений, наступает очищение. Женщина, рожавшая многажды, обретает девство. Но я, Царь, не хочу такой чести. У женщины, которая рожает души, не только тела, есть гордость. Она хочет быть и пребыть женщиной. Она хочет стать и остаться ею навсегда. Я не понимаю девства. Я не хочу его. Я приискала к тебе на резвом коне. й не могу и не хочу медлить. Возьми!"
Кони их оказались рядом. Царь снял ее с ее коня, пересадил на своего. Он посадил ее на голое живое копье. Она закричала. Седло коня, ребра, гнедая шерсть оросились ярким, красным.
"Ты вернулась в лоно Красной Тары", – сказал Царь сурово.
"Я вернулась", – повторила она счастливо, задыхаясь от слез.
Воины, сидящие на конях, скачущие рядом с ними, не отвернулись, не опустили глаз. Царь совершил обряд; а эта девка из далекой страны, выдающая себя за богиню, всего-навсего дешевая ворожея, подстилка для каждого изголодавшегося бойца. Когда надо будет, мы ее сорвем с коня и повалим. Слишком хорошо она скачет. Слишком прыгает ка крупе, на черной шкуре коня ее белый голый зад. Да разве она голая, на лошади?.. Она ослепляет. Она говорит глазам, чтобы видели то, что они хотят видеть. Вот мы и видим. Наш Царь уже погиб. Она обвязала его колдовством. Гляди, они любятся прямо на коне, ка скаку! Как румяно ее лицо! Ты хотел бы быть на месте Царя? Да. Хотел бы. Что ты за это отдашь? Все.
– Девочка моя... живот твой горяч. Ты вся в крови. Ты крестила кровью моего коня.
– О-о... держи меня. Как это больно. Я и забыла, как это больно.
Они, обнявшись, скакали на одном коне к Белой Воде. Белая Вода, Бай-Кель. Ледяная Вода. Жемчужная Вода. Он выловит сетями много рыбы омуля; он принесет жертву на священном камне обо, и жертвой будет его конь, омоченный женской кровью. Синяя Вода, Сапфирная Вода, ты все ближе. Там, на берегу, близ старых рассохшихся лодок, у воды, у кромки раннего льда, меж разбросанных кедровых бревен сидит Бурхан. Он каменный. Он страшный. Его веки подняты, но он не видит. Он слеп. Старухи мажут ему глаза слюной и медом, молодухи – сладким молоком из грудей. Бурхан живет глубоко на дне Белой Воды, и раз в году озеро выпускает его – он хочет жену на один день, и Белая Вода дает ему жену. Их вдвоем, каменного Бурхана и дрожащую женщину, погружают в лодку без весел, толкают лодку прочь от берега. Сильно дует култук. Или сарма. Или теплый шелонник. И лодка уплывает прочь, гонимая ветром, по Белой, по Синей воде, и каменный мужчина и живая женщина узнают друг друга. И понимает женщина, что камень живой. И знает тяжелый каменный идол, внушающий ужас, что живое обращается в камень в последней судороге ужаса, боли, счастья, отчаяния. Рука волны, бывает, переворачивает лодку. Они, обнявшись, идут на дно, камень и женщина. Они застывают вместе. Влипают друг в друга. Становятся единым валуном.
Ксения и Царь спешились у кромки воды.
Зерна колокольного звона сыпались и летели поодаль. Нежный, как песня, снег вычерчивал белой кистью рисунок времени. Снег умирал на устах. Ксения входила в воду. Ее ноги замерзали. Бурхан обнимал ее ноги торосами, шугой, заберегами, наледями. Вот уже по колено зашла. Вот уже по грудь вода, вот уже надо кричать: "Тону!" – но крик не идет из горла, а глаза видят в застылом изумруде воды мир иной, и душа хочет туда.
КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ БОГА ЕЯ, ИДУЩЕГО ПО ВЕЛИКОМУ ОЗЕРУ
Устала душа. Мир иной примет меня сейчас. Надо стать большой рыбой. Сигом. Омулем. Надо стать зверем нерпой, стремительно, свечкой, выплывать из глубины, ловить ртом золотые зерна Солнца, криком приветствовать восход, тонко выть на крупные звезды морозными ночами.
Я шла неостановимо, все глубже, все холоднее. Я возвращалась. Это было возвращение. Я ВОЗВРАЩАЛАСЬ НА РОДИНУ.
Когда я появилась на свет? Когда я покинула ее? Забытье тысячи рождений стерло великую память. Я должна была вернуться вот так, через врата смертной муки, захлебываясь Белой Водой, задыхаясь. И последний мой взгляд будет стрелой пущен в небо, где по-волчьи косматое Солнце зимы, скаля красные зубы, бежит, бежит на закат!
Густые слои бериллово-зеленой воды раздергивались, как тяжелые занавеси, и я, содрогаясь, созерцала жизнь Мира Иного. Вот они, сделанные из масла, прозрачные рыбки-голомянки – мелькают, играют, вот мимо сверкнули, видны внутри все ребрышки, хребет, чечевицы сердечек. Так мою душу было видно людям насквозь. Так народ смотрел сквозь меня, смеясь, давя меня в толстых пальцах, и лишь мазок золотого масла оставался от меня, раздавленной, на чьих-то ладонях, на чужих одеждах.
Вот плывут важные ленки – к ним не подступись. А сколько неприступных людей видала я в мире! Как ломилась я к ним! Как пробивала слабым телом неодолимую толщу ненависти... Вот ельцы играют, стоймя взвиваясь над красной закатной водой, вода из белой стала красной, кровавой. Это озеро крови, Бай-Кель. Сколько здесь крови лилось. Сколько крови лилось везде. Льется сейчас. Как мне назвать мой век? Век Крови? И в иные века ее проливалось довольно. Играйте, рыбы, по горло в крови, наставляя морды в кровавое Солнце. Зима идет. Вы все застынете во льду. Вмерзнете в лед. Забудут, как звали вас. А вы, сиги, что вьетесь, хороводитесь, что веселитесь?!.. Кровь обнимает вас, обтекает, хоть и толсты ваши богатые спины, хоть вы все в опалах и яшмах драгоценной чешуи. Синим пламенем сгорят ваши наряды! Выловят вас, как миленьких. Выловят, выбросят из сети, счистят чешую длинными ножами и, сладострастно кряхтя, зажарят на раскаленных камнях. На круглых черных сковородах зажарят.
Вода била мне в ключицы. Шуга, шурша, шла перед глазами. Вдруг кто будто толкнул меня в спину, и я обернулась. Сердце оборвалось. Истерли тонкую леску, на которой оно висело, держалось.
Я УВИДЕЛА.
Это был сон. Это была явь. Это мне дали увидеть перед смертью, быть может, последней в цепи смертей и рождений. Я благословила этот сон. Я сложила руки ракушкой и помолилась, чтобы дольше видеть его. Перед смертью мне не дадут испить воды из больничной ли, тюремной ржавой кружки. Вода – вся предо мной. И я вступаю в свой сон, и нет ему конца; вот так я умираю по-настоящему.
Кровавое Солнце свалилось в яму. Царь стоял на берегу, рядом с конем, пристально глядел на меня. Небо резко потемнело. Налилось черной кровью. Мгновенно унизалось звездами. Крупные, мелкие звезды высыпали в мгновение ока. Чернота усеялась огнями. Огни мира. Далекие. Ледяные. Не может быть, чтобы они были живые. Я так любила их, когда жила на свете. Я вскинула к ним вверх, из воды, мокрые руки, уже начавшие леденеть. Звезды! Идите ко мне. Вы мои. И я ваша. Возьмите меня. Я буду вам служить.
Звезды дрогнули. Зашевелились. Подвинулись. Стали медленно, страшно складываться в круги. Кресты. Ряды. Кольца. Стрелы.
И звезды пошли.
Пошли прямо ко мне.
Так, как я хотела и звала.
Из безумных прогалов мира, из угольных мешков, из раскулаченных и расстрелянных морозов, из дегтярных бочонков, из деревянных черпаков потекли ко мне неумолимым ходом жгучие звезды, и Звездный Ход был страшен и торжествен, он звенел, как все колокола Тибета и Хамар-Дабана, как могучие колокола затерянных в горах монастырей и часовен, над провалами пропастей, у синих зубцов Тенгри и Канченджанги. И не мне было остановить его! Звезды шли прямо на меня, они ослепляли меня, они прокалывали копьями мне грудь, и я кричала от боли и света.
Тону в звездах! Кому выпадало такое счастье! Это мне за все грехи! За все зло и добро, что я в жизни наделала!
Глубже, глубже! В воду! Туда, на дно! Как люди задыхаются, когда тонут? Почему, Бурхан, ты не связал мне руки и ноги, чтоб вернее было, ведь я выплыву, ведь я отлично плаваю?! Гляди туда! Гляди в глубину! Все, что на поверхности, – блажь! Бред! Глубина – истина жизни! Истина гибели!
Я вгляделась в изумрудную толщу, распавшуюся передо мной.
Чернота и зелень дробились и рвались. Огромная, раскосая Луна застывала медным тяжелым ликом в дегте неба. Ее зыбкое отражение волоклось по дну гигантской блесной. Я наступила на нее. Луна разбилась на тысячу кусков. Из водной и земной преисподней, преисполненной черноты, шел на меня острым сверкающим, серебряным клином косяк лученосного омуля. Во тьме горело светлое острие клина. Луна была щит, косяк был стрела; я стояла в воде, меж небом и землей, и глядела, как из глубины земли идут на меня и сквозь меня звезды. Это омуль! Нет, это звезды. Они идут, чтобы разорвать меня ножами. Чтобы наполнить меня, как пустой мешок. Чтобы я, накормленная звездами, не могла ни дышать, ни говорить, а стала только испускать свет. Собственный свет. Холодный. Ледяной. Милые звезды. Вот вы разрезаете меня. Вы вспарываете мне брюхо, как рыбе. Вы рыбы, и вы ножи; я целую вас, и губы мои в крови. А еще говорят, что рыбья кровь холодна. Что она голубая. Зеленая. Что?! Вы... идете сквозь меня?! Разве... вы не вечные?! Разве ваши ножи не блестели над Бурханом... над Чингисханом... над Иссой?!..
Они шли на меня, через меня, мимо меня. Они шли скоротечным ходом. Великим Повтором Жизни. Вспыхнуть и отгореть. Все повторяется. Все до обидного одинаково. И кровь. И любовь. И звезды. И смерть. Кто же такой человек? Кто такая я? Зачем я сдалась миру?!
Рыба наизусть знает свой путь. Он записан древними письменами у нее на чешуе, на жабрах, в синих шариках холодной медленной крови. А моя кровь красная! Ее пили много раз. Кому не лень. Звездный Омуль, иди, теки извечным путем – рождайся, мечи икру, умирай. Исполни закон. Я тоже исполняю закон. Я послушно жила. Я гудела трубой: свята жизнь, свята! Люблю жить! Не хочу умирать! А вокруг меня умирали. Умирали солдаты на Зимней Войне. Умирали женщины в родах. Умирали тираны от мстящей руки. Умирали от голода, крючась у ног богачей в дымящейся пурге. Умирали от ревности, от любви и боли в объятиях друг друга. И я, чтобы сродниться с людьми, чтобы не быть одинокой, одной, как кедр на снежной вершине, умирала вместе с ними. И мои объятия были замешаны на вьюге, морозе и льде – и я обвязывала раненого, умирающего холодным и белым бинтом лечебного тела своего, белых дрожащих рук своих. И я крестила мертвого крестом худого тела, и мертвый поднимался, восставал, тянул слепые руки к жизни. Я была крещена крещенским морозом земли. И это я сподобилась видеть Звездный Ход Омуля – глазами всех, кто умер и воскрес у меня на руках.
И жадно я глядела, как гудели-катились ко мне – из живота неба и из чрева земли и воды – два Звездных Хода, и не могла ни ступить в глубину, чтобы вода пожрала меня, ни взмыть наверх: силенок было мало, и с ума я сходила от любви к земле. Одежды мои намокли. Я, сощурясь, смотрела на Восток. Гольцы Хамардабана обнаженными ножами белели в ночи. Я обернулась и поглядела на Север.
А с Севера!.. С Севера...
С Севера, тихо ступая по водам между синих льдов, сощурясь, подобно мне, от ослепительного Звездного Хода, шел ко мне Исса.
Я сразу узнала Его. Ветхий плащ, драная, перештопанная холстина, бил Его по щиколоткам. Ветер крепчал. Пронзал до костей. Глаза Его под тяжелыми веками, набрякшими, иссеченными ледяной крупкой, горели ярко. Издалека я видела, содрогаясь, этот чистый свет. Он ступал быстро и осторожно, словно шел по струне, чуть расставив худые, торчащие из серой мешковины руки, удерживая равновесие, будто вода была не вода, а тонкая нить туго натянутого воздуха. Звездная епитрахиль свивалась над ним в клубок, развивалась в необъятную ширь. Из ступней Его сочилась кровь – Он ободрал себе ноги, скользя по зубчатым краям льдин. Он не кривился от боли. Он умел терпеть. Он улыбался. Он шел, и кровь Его текла в синюю воду, расползаясь ручьями и потоками, и рыбы подплывали и глотали ее. Рыбы знали допрежь человека, ЧЬЯ это кровь. Безгрешные рыбы молча, по-рыбьи, причащались крови Его.
Когда Он подошел по воде ближе, я разглядела кожаный ремешок, коим Его косичка была подвязана, и болтающуюся у Него на голой груди смешную нэцкэ из зеленого нефрита, изображающую толстую утку, и лапы морщин в углах горящих глаз, и нежную улыбку рта, ловящего летящий по ветру снег, улыбку, где не хватало глазного зуба, – я поняла, что Он пришел, Он здесь, и надо попросить Его.
И я захотела побежать к Нему, но вода доставала мне до горла, вода не пускала меня, держала меня холодными руками, я бежала к Нему внутри воды, заплетаясь ногами за камни, плача бессильными слезами, а я так хотела бежать по воде, как Он, бежать вольно, легко и свободно, и Он понял мое страдание, Он увидел меня и понял меня, и сильнее стал свет от Его улыбки.
Я выбросила вперед руки. Я вырывалась. Я билась в воде, как пойманный омуль.
– Исса! О, Исса! – крикнула я, рыдая. – Я так люблю Тебя! Если Ты покинешь меня навсегда, мне не жить! Жизни моей нет без Тебя!
Он, не отирая улыбки с зарозовевшего на култуке худого лица, неостановимо шел мимо меня.
Вся мокрая, в тяжко капающем с одежд серебре воды я выкарабкалась на берег, на острые камни, и крик продолжал рваться из меня – так младенец рвется из лона роженицы, разрывая ее и калеча:
– Исса!.. Не уходи, Исса!.. Мудрые и немудрые были невесты! Я – самая глупая из всех! Я просто нищая... просто безумная... мать меня ножками вперед родила, но я... налила масла в лампаду! Я одна ждала Тебя долгие морозные века! Я мотала бесконечность на прялку. Не покинь меня!
Исса соблаговолил обернуться ко мне. Мокрое платье облипало мое тело. Он погладил меня светлыми глазами. Все стянулось и напряглось внутри меня. Ровно гудящий култук трепал и колотил полы Его изодранного ножами льдов плаща. Губы Его из-под заиндевелых усов дрогнули, шевельнулись навстречу мне, бороденку крутил ветер, взвивал длинные космы, косичку за плечами. Я видела, что в одной руке Он держал чашку белой глины, чтобы китайский чай, люй-ча, из нее попивать, в другой руке – старомонгольскую круглую ложечку для заваривания чая. Он все ближе подходил ко мне. На Нем были напялены, висели дивные вещи. Он нацепил на себя весь родимый мой мир. На шее у Него, кроме нефритовой нэцкэ, висела еще лошадиная уздечка – должно быть, от лошади шерпа-проводника, – болтался на грубой веревке трехгранный тибетский нож, играли под Луной четки, выточенные из кошачьего глаза, а под рубище, под плащишко затерханный у Него была поддета... – то-то я думала, что за яркий огонь бьет у Него из голого тела, изнутри!.. – ослепительная, оранжевая, хоть зажмурься, куртка ламы! Вся грязная: пятна мазута я на ней увидала, зацепы от железнодорожных шпал, потеки олифы! А в узел уздечки был завязан пучок сандаловых палочек! И они тлели, и аромат их вошел в мои ноздри.
Омуль шел Звездным Ходом. Я крикнула Иссе:
– Говори! Не молчи!..
Он заговорил, не останавливаясь, продолжая гордо и легко идти по глыбам и хлябям Бай-Келя:
– Я иду мимо тебя. Я всегда буду идти мимо тебя. Разве земная тыква, катясь вокруг Золотого Дракона, останавливается когда-нибудь в вечном стремлении своем? Земля всегда видит Солнце. Солнце всегда видит Землю. Я всегда, идя мимо тебя, буду видеть и любить тебя. Ты всегда будешь видеть и любить меня. Оботри слезы свои! Вспомни Сульфу. Шаманы пламенны, они не плачут. Чтобы камлать хорошо, ты должна отрешиться от себя. Не старайся меня обнять, обхватить, удержать близ себя. И не только меня. Я ведь и так Исса для всех. Но и никого другого...
Я глотала слезы. Волосы мои развевал ветер. Голос Иссы оборвался снежной нитью. Омуль шел в небесах длинной сплошной серебряной лентой, тяжелым блестким мафорием.
– Многие будут приходить и пророчествовать под именем Твоим, – напомнила я Ему Его же слова и залилась краской – оттого, что так сильно Его люблю. – Не обидься на меня, если Ты опять придешь, а я Тебя вдруг не узнаю.
Ветер мотал, относил в сторону пряди Его нестриженых волос. Рука Его протягивалась, выворачивалась навстречу мне ладонью к лицу моему в прощальном жесте.
– Ты узнаешь меня. Не бойся. Ты всегда узнаешь меня.
Вот Он уже – длинная холщово-серая береза с оранжевым – с испода – бликом Солнца, с паутиной сирых ветвей, мотающихся под пургой; вот Он уже – сухая вобла, кинутая щедрым небом на прокорм тощей, со свалявшейся шерстью, лающей зиме; вот Он уже – сандаловая палочка, дымящаяся в мареве медвежьей ночи духовитыми лохмами взвиваемых ветром волос; вот Он уже – рыбка-голомянка, нежно плывущая, уплывающая в черную даль... – маленькая прозрачная щепка, и ее втягивают губы ночи... Исса! Куда Ты! Я же – вот, здесь...
Все – канул в ночную печь угольный катышек, срезанный с четок. Култук завыл и повернул. Началось безумие сармы.
Сарма выла. Плясала. Сбивала деревья. Переворачивала лодки на берегу. Царь, наблюдавший происходящее, лег у воды на снег вместе с конем, чтобы сарма не свалила их с ног и не разбила о камни и стволы кедров. Это была могучая пляска ветра. Я никогда не видела такой ярости. Не слышала такого гула и гуда. Даже на Зимней Войне. Ветер разрушал и крушил страшнее человека. Я увидала в лицо мощь природы. Я испугалась. Я легла на снег в мокрой мешковине и ткань мгновенно пристыла к наледи, а грубые руки сармы толкали меня в шею, били по спине, рвали мне волосы. Я вцепилась в валун, на котором лежала животом, чтобы не оторваться от земли и не улететь. Это оказалось трудно. Ногти мои нашли в камне щели, чтобы вкорениться. Сарма била меня больно. Получи! Получи за все свое! За все хорошее! За все гадкое, за все святое, что в жизни понаделала!
Звезды колыхались и смещались. Спирали омуля вращались в разные стороны, били серебряными хвостами. Мороз тащил из озера белые сети, там билась рыба, она вываливалась из порванных ячей и билась об лед. И я билась головой о камень, об лед вместе с рыбой. Я рыба, я бессловесная тварь, я раздуваю жабры, я сейчас разобьюсь, я перестану думать, страдать, существовать. Исса. Тебя нет. Значит, и меня нет. Я омуль, а вот их тысячи плещется в сетях и на свободе. Я омуль, и я забыла имя свое. Я омуль, Исса, и я обвиваюсь вокруг Твоей стопы. Ты давишь меня ногами. Ты стоишь на мне, на рыбе, и смеешься. И я плыву с Тобой на себе, держу Тебя на своей спине, уплываю с Тобой в глубины черноты и зимы. И пустота раздвигается, впуская нас.
Я разлепила мокрые ледяные колючки ресниц. Я сподобилась еще раз увидеть Иссу.
Перед моим лицом проплыло круглое зеркало приблудной льдины. Поодаль, против утеса, поросшего стлаником и кедрачом, качался на густых маслено-леденистых волнах пузатый карбас. Оранжевой краской он был крашен когда-то, да вся она с него пооблезла, облупилась, и темные, изъеденные ветрогоном ребра досок выпирали наружу – голодом скитаний и нищеты. Мощно и смертно, ровно и неутешно дула, гудя, сарма. Палуба карбаса, кренясь и скрипя, протягивала на дощатой ладони навстречу идущему по водам Иссе двух рыбарей. Рыбаки скользили обутыми в унты ногами по сочленениям палубных костей. Искали, куда упереться ступней, за что ухватиться. Качало сильно. В раздутые ноздри, в виски хлестал волчий ветер.
Исса брел уже через силу, хоть легкость шага сохранял.
Я различила – закушены Его губы. Кровь брусничными брызгами окрестила подбородок. Кровь испятнала льдины, хрустко расходившиеся веером под Его ногами – закраины застылых плит резали нежные узкие ступни, вцеплялись в них когтями. Я все видела. Помочь не могла. Он шел к карбасу. Кричи не кричи – Его было уже не вернуть. Мимо меня Он опять прошел в жизни. И что теперь будет со мною?!
И почему у Него лицо Юхана, мужа моего лицо?!
– Петр!.. Иоанн!.. – крикнул Он слабо. До меня еле донесся Его голос. Он вскинул к рыбакам руки, замотался перед Его грудью обледенелый корабельный канат. Из последних сил крючьями обветренных голых рук Исса вцепился в него.
Два рыбака – старый, с серебряной бородой кольцами, лысый и загорелый до каленой черноты, и юный мальчишка, румянощекий, тонкошеий, глаза распахнуты шире клювов орущих птенцов, яблочный подбородок, запястья и кудри как у девушки, а лоб и губы в чешуе пота, – крепко ухватившись за конец сброшенного каната, потянули, надувая заплечные жилы... – ну, еще, еще, Господи, пособи!.. раз-два, эх!.. – тут и третий рыбак вывернулся из-за горой сложенной снасти, чернявый, смолянобородый, лишь белки глаз, смачно и страшно синея, блестели в ночи, – и вот, вижу, Исса уже на палубе, а карбас мотает и крутит нещадно, а эти мужики, рыбаки, смеются, а может быть, и плачут, пес их разберет; сильно блестят их лица, красные на морозе, и что-то такое суют Иссе в руки, в рот, – прищурилась и увидала насилу, сама от слез ослепла: в деревянной миске они Ему бруснику моченую подносят и стопарь наливают из громадной бутыли, а бутыль-то у Петра за пазухой была, в тулупе, он и опять ее туда прячет. А у Иссы руки окоченели совсем! Не шевельнет Он ими, только дует, дышит на них. А чернявый накидывает на плечи Иссе тулуп овчинный, обнимает Иссу за шею и целует Его.
И я вижу, как пьет Он водку и закусывает сахарной брусникой, и сердце мое сжимается в комариный комок, и я леплю губами белую глину снега: ОН ДОШЕЛ! ОН ПРОШЕЛ ПО ВОДАМ! ОН ПОБЕДИЛ!
Я видела как сквозь грязную линзу: губы Его, обмоченные водкой, шевельнулись, и я поняла, что Он сказал тихо: "Спасибо, Андрей..." А я лежу на камнях. На снегу. И кедры гудят надо мною. Что с ними со всеми будет? С Иссой, апостолами? Будут рыбу ловить? Продавать на зимнем рынке? Меня так избила сарма, что я вижу виденья. Крепко я избита. Жар у меня. Забинтуйте меня снегом. Заверните меня в марлю пурги, подкрепите меня Белой Водой, ибо я...
Китайскими снежными иероглифами расцветал берег озера.
Я лежала животом на залепках слежалого снега, и земля дернулась подо мной, как раненный охотником красивый и злобный зверь. Белесая мгла закрутилась перед глазами, высвечивая внутри первую неловкую и страшную страсть, последнюю гордую нежность. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как черные, зацелованные сармой доски карбаса пойдут на дно. Гулкие колокола зазвонили надо мной. Я поплыла в холоде-звоне, оглушенная, переворачиваясь брюхом кверху, еле шевеля плавниками, меня убили ботаньем, меня вытащили сетью. Я поняла зазубренным, источенным краем сознания, что жабры мои сохнут без воды.
Исса прошел мимо меня.
А кого же я теперь позову из мрака.
Дзугасан, дзаласан-хан. Айя-ху. Айя-ху.
..............а не послать ли нам ее на... –...доело возиться.
Я уже вылил на нее целое ведро воды. И ништяк.
Классно ее отделали на допросе.
Мастера!
На каковском языке она бормочет?..
Уж лучше бы материлась.
Баба слабая. Крыша поехала.
Побей ее по щекам. Сильнее.
Боюсь, выбью ей скулу. Или глаз. Ха! Ха!
У нее голова трясется. У нее глаза открылись.
Полундра, чесноки!.. У нее вместо глаз... вместо глаз... знаете что?!.. Видите!.. видите!.. Серебро!.. Рыбья чешуя!..
Да это Спиногрызка ей рваной фольги под веки насовала. Для смеху. Ха-а-а-а-а-а!
В лесу родилась елочка, в лесу она...
Е-е-елка! За ногу мать...
Вынь ей фольгу из-под век. У наших вертухаев не все дома.
А у твоих?! А у твоих?! У каждого свой личный вертухай, ведь так?!..
И свой личный кровосос, не забывай об этом.
Да, слабаки бабы. Поджилки у них никуда, у баб. Вот и эта сломалась. А крепкая с виду была.
Ее били по щекам. Ее жестоко и без перерыва били по щекам, и голова ее моталась туда-сюда. Ее волокли куда-то: сперва в один угол, затем в другой, тело корчилось на ледяной сковородке каменных плит. Обрывки разговоров мотались вместе с головой. Бесились красные флажки слов, смешков. Звон в ушах от битья – что они болтают?.. – Федьку выпускают завтра на волю – чемодан освобождается – все равно набьют икры в мешок – по тыкве дать гундосому да слинять через окно! – там решетки, барсук – как хочется пить, вместо горла наждак, вместо языка деревяшка – стой! на стреме !.. – в Багдаде все спокойно – а-а-а, живот – ты что, пирога с дерьмом обожрался, что ли – заставили из параши пожевать – так тебе и надо, шестерка – что вы таскаете Ксеньку взад-вперед – ну, загнется, и делу конец – дура, нам же потом новое дело пришьют – убийство в камере – еще один срок, пошел он впи... –...шут с ней, западло возиться, оставь!.. – жалко – у пчелки жалко – у пчелки жопка – а у тебя гроб с музыкой будет – ща, разбежался – я тебе отходняк и спою – а у тебя голос-то есть?.. – вот Ксенька очухается, она тебе и споет – прокудахчет – а я ей прокукарекаю – петух е... –...ду бы в лазарете стибрить бутылек – квасить будешь, чухонец?!.. – обожжешься, тля... – глотка ссохнется – да это ей синяки, раны помазать, дохлой курице, она же нас тут лечила – она?!.. нас?!.. лечила?!.. – и от чего она тебя вылечила, сыпной-брюшной?!.. – от меня самого...
Ее веки раздвинулись. Хлынул серый свет. Серые лица мельтешили над ее запрокинутым лицом, серые руки трясли ее. Кто-то в тельняшке наклонился – то ли баба, то ли мужик – и укусил ее за ухо. Серые зубы скалились, серые космы щекотали ее. Ей снился серый сон. Где Царь? Где Юхан? Она вертела головой беспомощно, лежа на каменных плитах, оглядываясь. Вот они, турьи рога, ее девственный головной убор. Да это просто серые тряпки, скрученные в жгут, валяются вблизи. Это плохой сон, и надо его избыть. Сгинь, пропади. Надо перекрестить серую тьму. Она не Исса. Но она перекрестит. Нет. Рука не поднимается. В руку впились серые когти, не пускают.
– Очухалась!.. Живучая, собака!.. Глянь, руку тянет!..
– Заключенная... на допрос!
Лязг двери. Цокот каблуков. Сапоги. Сапоги перед ее лицом.
– Кончай базарить, кореш, не видишь – она кончается!.. попика бы лучше тюремного прислал...
– Заключенная Ксения, встать!
– Не встанет... сука ты!..
– Носилки!
Ее подхватили под шею и щиколотки, тяжело перевалили на лягушачью кожу измазанных кровью носилок, как бревно. Потащили. В ярко освещенной каморке за дощатым столом сидели три человека – лысый, жирный и беззубый, меж ними на столе стоял петух, время от времени хлопал крыльями и кукарекал. Петух был вместо часов. По петуху узнавали время. Раннее утро, поздняя ночь. Люди за столом менялись. На смену жирному являлся жирный, на смену лысому – лысый. Ксении крикнули:
– Стоять!
Она упала. Стоять она не могла.
Ее подняли, облили ледяной водой из ведра, всыпали в рот порошок, снова крикнули:
– Стоять, твою мать!
– Моя мать в сырой земле. Я хочу к ней, – сказала Ксения беззвучно и снова упала.
Ее положили на составленные рядом стулья. Жирный человек за столом поднял ладонью вперед жирную лапку. Петух прокукарекал.
– Еще не утро, – сказал жирный человек и осклабился. – Ну-с, расколем этот крепкий орех. Будешь говорить, падла? Ишь, нищенкой прикинулась.
– Мы тебя раскусили сразу, – подал голосок лысый. – Ты портишь нам всю картину. Ты смазываешь ее. Мы строим, ты разрушаешь. Ты опытный подрывник. Кто еще с тобой?! Кто?! Быстро говори!
– Я одна, – сказала Ксения, лежа плашмя на стульях. Лысый человек подошел и саданул кулаком ей в зубы. Она свалилась на пол. Лысый добавил – носком сапога ей в подглазье.
– Когда от тебя останется мокрое место, – назидательно сказал лысый и покривился, – мы тебя опять оживим. Мы мастера. Но и ты, сучка, не дилетант. Ты тоже мастер. Еще какой. Ты нас переплюнула. Но и мы не лыком шиты. Кто с тобой?!
– Оживать я умею и сама, – сказала Ксения и усмехнулась разбитыми губами. – Я и летать умею. Я и вас проучу... если захочу.
– Ну! Давай! – Беззубый поднялся над столом, длинный, как слега, с лошадиной мордой. – Что ж ты все никак не захочешь! А мы тебе не раз предлагали! Покажи свою силу! Не хочешь?.. враки все. А слабо тебе ее показать! Ну! Покажи! Покажи!
– Отстань, она работает другими методами, – произнес лысый и перевернул ее со спины на живот носком сапога. – Она хочет взять нас измором. Говори, кто еще с тобой в связке?! Кто?! Люди идут за тобой. Не за тобой одной, а?! Расскажи сказки кому-нибудь. Кто тебя направляет?! Кто дает тебе деньги?!
Ксения лежала на животе и молчала. Сон продолжал сниться. Было холодно, как на берегу озера... там. Затылок ее светился беззащитно, золотая река волос растекалась на два рукава и важно текла по полу.
– Вот это все, – брезгливо сказал лысый и взял двумя пальцами край ее отрепьев, – притворство и маскарад. Ты очень умна, и пославшие тебя тоже очень умны. Они хорошо знают, что в народ можно проникнуть глубоко, только став отверженным. Парией. Они дают тебе деньги. Много денег. У тебя есть дом. Богатый дом. Наряды. Шелка. Жемчуга. Машины. Ты катаешься на машине. В роскошном мерседесе?! В бьюике?! Бусы на шею наверчиваешь?! У тебя есть все. Слуги. Личные самолеты. Счета в банках. Все! А этот прикид, – он грубо дернул мешковину, она, ветхая, затрещала, – это рассчитано ка дураков. На тех, кто клюет на дешевку. Нас ты на мякине не проведешь. Где те, кто тебя кормит?! Где?! Говори!
Она лежала, светясь затылком, и молчала.
– Дерьмо, – сказал лысый. – В нищенку играет. Это они здорово придумали. Мы ее все равно расколем. Гундяк! Принеси револьвер, шприц и две ампулы халькорила.
Беззубый принес заказанное. Лысый встал над Ксеньиной спиной, расставив ноги, будто играл в чехарду. Поднес револьвер к ее затылку. Она ощутила укус холодной стали. "Как мне их жалко. Как они обмануты. И я, я не раскрою им правду. Всю правду они узнают сами. Как они будут терзаться. Корчиться в муках от правды. Им будет хуже, чем мне сейчас".
– Говори, где твои хозяева?!.. Где ваша явка?!.. В какой стране твоя секретная вилла?!..
– Проще было бы ее убрать совсем, Сыпель, Но тогда мы не узнаем никогда, кто с ней в паре. Опасность останется. Другие, под видом ее, возникнут опять и будут работать еще хлеще. Народ уже растлен ею. Мы должны уничтожить других. Других Ксений, ты понимаешь?!
– Понимаю. О чем речь. Ты!.. – Лысый ударил ее рукояткой револьвера по затылку, она застонала. – Говори быстро. Считаю до трех. Если не скажешь... – он поджал губы, морщины на лысине собрались в гармошку, – я прострелю тебе шею. Ты ведь хочешь жить. Ты!
Ксения молчала, ощущая лед стали на затылке, под волосами. Потом сказала:
– Как... мне... жаль тебя.
– Ты! – крикнул лысый еще раз, оскалился и выстрелил Ксении в плечо. Кровь брызнула лысому в лицо. Он наступил Ксении сапогом на спину. Хребет хрустнул. – Я буду стрелять в тебя, пока не изрешечу!
– Стой, – сказал жирный, встал и с грохотом уронил стол. Петух заклекотал, взлетел, шарахнулся к яркой лампе под потолком, упал и стал бегать по полу, махая крыльями и выкатывая оранжевые глаза. Жирный подкатился к лежащей Ксении, схватил ее и посадил на стул. Правая рука ее обвисла. Кость была перебита. Она теряла кровь, лицо ее серело, затягивалось паутиной быстротекущего времени.
– Будешь говорить?!
Она улыбнулась. Вот и глазного зуба у нее нет. Как у Иссы. Симон ей выбил когда-то, обещал вставить. Симон любил ее. И эти люди любят ее. Они даже не подозревают, как. Они хотят ее любить, но боятся. И в страхе все дело. Страх задавил их. Скрутил им руки. Выжал по капле сок из ума. Но души, их свободные души! Она разобьет клетку, в которой сидят их малые, нищие души. Она разобьет клетку, как они разбили ей губы и зубы. Она выпустит их на волю.
Глаз ее заплывал синей и красной кровью. Такие красивые разводы. Перо из павлиньего хвоста. Гундяк хохотнул.
Она подняла левую, от сердца, руку и широко перекрестила мучителей.
– Сволочь!.. издевается, – процедил лысый. – Я ее прошью этой иголкой. Сошью ей брюхо с позвоночником. Дрянь!..
Он выстрелил в нее еще раз. Пуля скользнула по ребру, сорвала кожу, отскочила от стены.
– Стреляй третий раз, – внятно сказала Ксения, – может, убьешь. И тогда посмотришь, как я воскресну. Ведь сегодня воскресенье. Воскресенье сегодня. И твой поганый петух еще трижды не пел.
Она поднялась, обливаясь кровью, шатаясь, еле удерживаясь на ногах. Бирюзовый крест блеснул синим глазом между ключиц. Жирный и лысый попятились. Она пошла прямо на них, улыбаясь. Они пятились к перевернутому столу. Она шла. Она подняла левую руку высоко, высоко. Ее пальцы раздвинулись и шевелились, как языки огня. Она смеялась им в лицо. Беззубый прошамкал:
– Очвечай, шволочь, кто чебя пошлал?!..
Петух взлетел ей на плечо, вцепился когтями в рану. Прокукарекал. Ксения поцеловала петуха в оранжевый, как куртка ламы, глаз.
– Исса, – вышептала она и свалилась как сноп на холодные каменные плиты.
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ ПСАЛОМ КСЕНИИ О ВСТРЕЧЕ С ГЕНЕРАЛОМ
Очнулась я в странной камере. Внутри сруба. Прямо на меня сухими глазками смотрели толстые черные бревна. Под потолком зияли два окна, на них была наброшена паутина решеток. В камере стоял стол, на столе сверкал медным боком старый чайник с изогнутым носиком, лежали: вобла, горбушка ржаного, пачка папирос, спички, в стаканах с витыми ложечками дымился чай цвета яшмы. Я ощупала здоровой рукой пространство вокруг себя. Лежала я на верблюжьей кошме, и даже жалкая крохотная подушка, в виде траченной молью думки, была подоткнута под мою голову. За столом, на массивном гимназическом стуле, обтянутом черной кожей и утыканном вычурными медными копками, сидел человек во френче и курил. Он курил одну папиросу за другой, заложив ногу за ногу. Тяжелый наган в кобуре, висящий на боку, оттягивал ему ремень, и человек то и дело сердито поправлял пояс. Он докурил очередную папиросу, загасил ее в пустой консервной банке и уставился на меня круглыми глазами цвета болота.
– Ну? – спросил он и отхлебнул из стакана чаю. – Как ваше самочувствие?
– Наше, – сказала я вежливо, – наше самочувствие неважнецкое. Раны болят. Может быть, вы перевяжете мне плечо? Где я?
– Мы, – подчеркнул он и залил чай себе в глотку, как горючее в бак, – мы находимся на станции Танхой. Я нашел вас в бессознательном состоянии около Аександровского централа в городе, перекинул поперек лошади и привез сюда. Здесь моя ставка. Здесь вы в безопасности. Я понял, что вас долго мучИли... пытали. Я не расспрашиваю вас ни о чем. Отдыхайте. Я позабочусь о вас.
– Кто вы? – Язык не повиновался мне.
– Я генерал сводной армии. Под моим началом все союзные войска, частично – наемники и несколько дивизий Центра.
Он налил себе в стакан еще чаю. По камере разнесся запах травки, называемой в восточных краях "верблюжьим хвостом". Генерал снова недовольно одернул ремень, с шумом втянул в себя горячий чай и, прищурясь, пристально посмотрел на меня, будто пытаясь запомнить или узнать.
– А Зимняя Война... еще идет?.. – глупо, задыхаясь, спросила я и содрогнулась от воспоминаний. Воспоминания о Войне были страшнее Войны. Не хотела бы я снова оказаться внутри воспоминаний. Я затрясла головой, отгоняя видения. Генерал раскраснелся от чая, усмехнулся. Подмигнул мне.
– А вы как думали, дорогая, – сказал он, утирая пальцем усы. – Еще как идет. И я подозреваю, что нет ей конца. И я найду свой конец на этой Войне. Тут уж ничего не поделаешь. Но н молодая. Вы должны жить. У вас красивые золотые волосы. Ах, батюшки, – всплеснул он руками, соскочил со стула и подошел ко мне, лежащей на кошме, – они наполовину серебряные. Сколько же у вас седых волос. А мордочка молоденькая. Бедняга.
Он присел передо мной на корточки, взял мое лицо в ладони. Близко от себя увидела я гладко выбритые щеки, жестокий нос, похожий на клюв орла, длинные, рыбами уклейками, глаза в сети морщин, залысины, седину. Рот был сжат подковой. Этот человек видывал виды. Он и меня видел насквозь. И я его тоже видела насквозь. Мы друг перед другом были прозрачны, как лилии в пруду.
– Что ж, – сказал он и потрепал меня за щеки, как треплют щенка, – давайте я вам сам руку перевяжу. Все врачи далеко отсюда. В горах. Тем, где стреляют. Эта Война ведется по старинке.
– Какой у нас сейчас год? – спросила я, и горло мое пересохло, а чаю я попросить не пыталась.
– Вы бы лучше спросили, какой век, – пожал генерал плечами и улыбнулся одним углом рта. – Сейчас начало века. Начало. Просвистело немножко времени от начала. Точно какой год, не знаю. Были у меня командирские часы, они показывали минуту, час, день, месяц, год и век. Часы эти в сраженье погибли. Они погибли, а я остался. Вот ведь какое несчастье. И я без них, как без рук. Ничем вам помочь не могу.
Он поднялся с полу, подошел к двери, пошарил в незамеченной мною большой походной сумке, вытащил бинты, марлю, вату, йод, вощеную бумагу, банку с бальзамом. На аптечной банке был написал год нетвердым почерком фармацевта. Я щурилась, силилась разглядеть. Не получалось.
Генерал опять склонился надо мной и сказал, держа в огромных руках медицинские причиндалы:
– Можете снять ваши одежды? Постарайтесь. Не стесняйтесь меня. Я старый военный жук. Я видел живых тел, и мужских и женских, ровно столько, сколько трупов. В результате все, что на нас наросло – мышцы, кожа, волосы, – ничего не стоит в сравнении с нашим крепким алмазным скелетом, который есть не что иное, как душа. Быстро! Это все стерильное.
Я, действуя одной рукой, живо стянула с себя мешковину. Генерал не глядел на мою грудь. Его интересовала лишь пробитая пулей рука. Он умело обработал рану; наложил мазь, повязку, марлю, захомутал все послойно широким бинтом. Тепло разлилось по моему голому, голодному телу. Я протянула здоровую руку и погладила генерала по врачующей руке. Впервые не я лечила. Меня лечили. И это было как любовь в сердцевине любви.
Когда он накладывал мне повязку, слезы лились из углов моих глаз и затекали мне на затылок. Любовь возвращалась ко мне любовью. Лицо генерала было сурово и неприступно. Бинтуя, он сжал крепко зубы, и от его рта к подбородку стекли две резких вертикальных морщины. Он закончил процедуру, склонился и поцеловал меня в нагую грудь.
– Хорошая девочка, – сказал он доверительно, – не кричала. Буду менять повязку раз в двое суток. Материала мало. Когда прилетит санитарный аэроплан, не знаю. Терпите. Пока вы здесь – вас никакая вошь пальцем не тронет.
– Как вас зовут?.. – слабо прозвучал мой голос в избе. Я услышала себя словно со стороны.
– Мое имя тайна, – твердо произнес генерал. – Тебе это так важно?.. Важно?.. Ну, тогда выслушай и сразу же забудь. И никогда не называй меня этим именем.
Он назвал мне свое имя, и я с ужасом выслушала его. Это его мне приказано было убить. Это именно его, генерала.........., я должна была найти в ставке Главнокомандующего в горах на Зимней Войне, разыскать и прикончить. Бесстрашно. Лицом к лицу. Не жалея жизни своей. Так приказал Курбан. Так вопил Красс, брызгая в меня слюной. А может, он просто тезка и однофамилец? А по отчеству?..
– У генералов отчеств нет, как и у поэтов, – сказал он, наливая бесконечный чай и закуривая бесконечную папиросу. – Вы всегда думаете вслух? Это бывает опасно для жизни. Вы, я вижу, свою в грош не ставите.
– Подойдите, – тихо, жалобно попросила я.
Он подошел ко мне с горящей папиросой, встал передо мной на колени.
– Лежите спокойно, – ласково сказал. – Кошма удобная? Я вывез ее из предгорий Куньлуня. Там воздух пылал от снарядов. Я горел там в танке. Там убили моего любимого коня. Я видел вас во сне, Ксения, и я видел этот сон, как будто вы лежите на верблюжьей кошме. Потому и взял ее у старухи, как трофей. Старуху расстреляли мои ребята. Зачем? Это Война. На Войне бессмысленно все. Вам жаль старуху?
– Жаль, – сказала я. Плечо смертельно болело. Бальзам впитывался в рану и разносился с током крови по голому телу.
Генерал курил, пускал дым меж тонких губ, над усами. Он не прикрывал меня ничем. Он глядел на меня, голую, вышедшую из утробы времени. Он раздумывал. Он раздумывал, пристрелить меня сразу или немного понаслаждаться моими душевными муками.
Он стоял передо мной на коленях и курил, и выдыхал пахучий дым, и думал, и думала я, мысленно загибая пальцы: одна смерть, вторая, третья, четвертая, пятая, а может, этот тот лейтенантик, там, тогда, в аду Армагеддона, в дыму и разрывах, в дождях и потоках огня, он, который поял меня на поле брани, он дослужился до генерала, да ведь и я уже вся седая, и он сам это подметил, вот чудеса, что за встреча; да ведь он ни капли на того мальчонку не похож, а ты что хотела, чтобы он остался таким же юным, да, хотела, но тебе же приказали его убить, а ты ослушалась приказа, ты закрыла его от пуль своим телом, ты обнимала его среди смерти, ты спасла его; и так все на земле спасают друг друга или убивают друг друга, а третьего не дано.
– Откуда вы узнали мое имя? – спросила я жестко.
– Не составляло труда, – он сделал последнюю, глубокую затяжку и кинул окурок на стол, в стакан с недопитым чаем, – ваши мучители вырезали ваше имя ножом у вас на груди. Они сделали это давно? Вы не помните. Раны уже заросли. Вторичное натяжение. Теперь вы с вашим именем можете встречать смерть грудью. Лицом к лицу.
– Мне надоело ее встречать, – сказала я и застонала: адская боль саданула по плечу, выломала в судороге простреленную руку. – Мне подавали милостыню. Теперь я хочу сама подать, а правая рука моя не работает, Скажите, генерал, она отсохнет? Может, ее сразу... отрубить?..
– Да, рубить лучше сразу, – сказал он и помрачнел. Лицо его стало темным, почти черным, налилось кровью и гневом. – я тоже так думаю.
– Вы пытаетесь... отрубить... зло... посредством... зла?..
– А вы знаете иное посредство? – насмешливо вопросил он, одну руку подсунул мне под коленки, другую – под шею, и так держал меня над кошмой, как будто на руках, как будто я была его маленькая дочка, а он мой добрый отец. – А вы знаете, дорогая Ксения, что такое зло? И хотите тоже его побороть?.. Бесполезно. Бессмысленно, если не знать.
Он провел рукой по моему животу, остановился на березовой развилке.
– Какая красивая, – сказал печально, – какая красота, Боже спаси, какая красота. Все, что осенено красотой, неподвластно тлению. Ксения. Лежите. Молчите.
Он приблизил лицо к моему животу и поцеловал меня в запавший от голода пупок, ниже, еще ниже, раскрыл развилку, нащупал языком розовую мякоть. Он искал языком в розе пчелу. В раковине жемчуг. Он искал, находил и терял и находил опять. Перед моими глазами поплыли цветные пятна, покатились горящие обручи, скрестились слепящие мечи и сабли. Трассирующие пули прошли ночь. Я опрокинулась головой вниз, как ковш Малой Медведицы над хамардабанской тайгою. Последнее, что я запомнила, – звук: стук об пол выскользнувшего из расстегнувшейся кобуры генеральского револьвера.
ПРОКИМЕН КСЕНИИ О ВЕЛИКОЙ ДОРОГЕ
Поезда, поезда, поезда. Тьма дорог. Дороги сходились в узлы, крепко связывались, разбегались. Меня куда-то везли. В пути мне меняли повязки. Не помнила дня; помнила только сумерки, ночь, тьму. Близ полки, на которой лежала в дороге, тряслась, стояли солдаты, сторожили меня терпеливо. Солдаты менялись; это был караул, почетный караул. Генерала не было при мне. Иногда я видела перед собой его спокойное лицо и содрогалась от ужаса: оно было темным, ночным, негрским, тьма выходила изнутри лица, на лбу стыли капли черного пота. Я зажмуривалась, и видение исчезало. Кормили меня? Должно быть, я голодала; будучи привычной к голоду, не особо чувствовала его.
Станции. Полустанки. Разъезды. Меня выводили, как собаку, указывали на кусты. Я слышала дыхание солдат. Я не различала времен года во тьме, при свете станционных фонарей: то ли поздняя осень, то ли холодная весна, то ли слякотная зима, то ли северное лето, но вместо белых ночей – непроглядная тьма, и меня везут во тьме, перемещают мое маленькое, никому не нужное тело в просторе и времени; куда? Вперед?.. Назад?.. Мы топтались на месте. Мы с солдатами выходили на станциях, пересаживались с поезда на поезд, следя пальцем строку в расписании, чтобы не ошибиться. Важно было не опоздать. Успеть впрыгнуть в вагон. Иногда мы опаздывали. Поезд показывал нам хвост, горящий прощальными огнями. Я плакала. Солдаты матерились. Мы долго стояли в кассовых очередях, сдавали билеты, покупали новые.
Тьма и ночь обнимали нас, у ночи было птичье лицо, и огни блистали на ее оперенье. Тряская дорога длилась и томила меня, и н устала думать о тем, когда ей наступит конец; да и наступит ли? Бесконечной тьмой и бесконечной дорогой испытывали меня, и страдание мое притупилось, я стояла под вокзальными фонарями на ветру, под надзором, под недреманым оком, а я-то думала, что никому никогда не нужна, и вот меня везут, как драгоценный камень, зажали алмаз в нищем кулаке и тащат с собой, чтобы привезти и заховать туда, откуда не украдут и где он покроется пылью и затянется паутиной. Я?! Это я-то – алмаз?! Я глядела на свои босые ноги в цыпках, на грязные руки. Если на станциях я находила проточную воду, я умывалась, плескала водой на грудь, терла заскорузлые ладони. Если падал снег, я ловила его ртом и растирала по скулам.
И снова поезд. Вагонные запахи. Полки. Стаканы с горьким чаем, с дребезжащими ложечками. Угрюмые лица суровых людей. Жалобы. Ругань. Прерывистые вздохи. Плач и визги детей. Снедь, разложенная на газетах, – помидоры, сардельки, яйца, сваренные вкрутую, жареные куриные ноги. Любители выпить ломали о вагонные столы воблу, отхлебывали водку из горла. Жизнь проходила в дороге, и жизнь была дорогой, и жизнь была дорога.
Я не знала, что меня везли в Армагеддон по приказу генерала.
Я не знала к тому же, что меня везли не для того, чтобы посадить снова в тюрьму, судить и приговорить; не для того, чтобы наказать; не для того, чтобы припугнуть; не для того, чтобы передать в руки Курбана или Красса в обмен на людей, нужных генералу, пленников его армии. Меня везли назад в Армагеддон, чтобы выпустить на волю.
Почему он не оставил меня с собой в ставке, там, на станции Танхой? Какого времени он был повелитель? Откуда он брал людей для своей армии? Почему они вставали под его знамена? Кому была нужна бесконечная, как дорога и тьма, Зимняя Война? Я не знала. Он перевязал мне руку, с которой скатилось потерянное мною на Зимней Войне кольцо старика Иоанна, и он поцеловал меня в сердцевину жизни; он спас меня от вечной смерти, и он снарядил меня в долгий путь, в конце которого факелом металась на ветру свобода.
Много позже, когда прошло невесть сколько лет со времени беспредельной ночной дороги, я поняла, зачем он это сделал. Я была для него не малым живым созданием, не случайной женщиной, не его несбывшимся убийцей, не его походной любовью. Я была для него не одним человеком, живым и живущим и могущим умереть в любой момент. Я была для него его армией, которую он освобождал от повинности, от оброка и налога Войны и выпускал на волю. Вольноотпущенной армией. Воплощеньем свободы. Той свободы, что, и отпущенная, расхристанная, смеющаяся, идет все равно напролом, все равно воюет, ибо она, будучи армией, привыкла воевать. В ней пружина. В ней воля к победе. В ней сила. Ее некуда девать; надо продолжать сраженье, даже если тебя освободили от оружия и ты бежишь налегке. У тебя нет оружья, но ты будешь сражаться голыми руками. Ты будешь кричать, оглушая победным криком свободы. Ты будешь бить головой в пах, если свяжут тебе руки. Ты будешь брызгать мощным фонтаном неостановимой крови, если тебе отрубят голову. Ты будешь устрашать и обращать в бегство напуганного врага обрубком своего тела, если тебя изрубят в куски.
Я была великой армией непобедимого генерала, не зная об этом. Он засылал меня в стан тюремщиков клином свободы. Вгонял меня, как нож, по рукоятку в тело чугунных решеток и бетонированных кладок. Он вел войну с Армагеддоном, и я ее вела; мы были разделены просторами и временами, и все-таки он успел, сажая меня в дощатый вагон вместе с горсткой солдат, нацепить мне на палец железное кольцо. "Я сам его выковал, – шепнул он мне, не разжимая рта, – По кольцу ты узнаешь меня там". – "Где там?" – глупо спросила я. "На Страшном Суде", – криво, углом рта, усмехнулся он.
СТИХИРА КСЕНИИ О СТРАДАЛЬЦАХ ЗЕМЛИ ЕЯ
– Ксенька! Ночной разъе-е-езд!
Молоденький гололобый солдатик дернул меня за косы, подтолкнул к выходу. Мы высыпались на перрон, как горох. Стояла глубокая нежная ночь. Гулко перекликались в вышине голоса диспетчеров, многажды усиленные, равнодушные: "на путь первый", "состав прибывает, один-сорок три, будьте осторожны, будьте осторожны". “Держитесь левых огней!” – заполошно кричала невидимая баба, а мужик ей холодно ответствовал: "Скорый тридцать восемь, тридцать восемь скорый, двадцать второй на переезде, уберите товарняк, товарняк уберите". Они сами разбирались в своей жизни, пути и рельсы, они боролись и сплетались, обнимали друг друга и расходились развилкою навсегда. Солдатик тряхнул меня за плечо и указал на кирпичную арку станции.
– Видишь?.. – соблазнительно шепнул он. – Уже Армагеддон близко. Это знаменитое место. Это станция Красный Узел. Здесь собираются сборища. Хочешь... сбежим?..
Его юное, в пушку, гололобое лицо горело в возбуждении, в предвкушении бесповоротного. Он предлагал мне сбежать вместе с ним. Ок утомился меня стеречь.
– Какие сборища?
Ночь обсыпала нас холодными огнями. Гудки выли и скрещивались. Прожекторы рубили ноги и руки тьмы. Слышалось дыхание Армагеддона – громадное, хриплое, предсмертное. Оно обжигало, захлестывало горло петлей.
– Ты не знаешь?.. давно в Армагеддоне не была... Знаменитые сборища Выкинутых За Борт... У них свой корабль... Дом в виде корабля... Они свободны... Они плывут, куда хотят, а не куда прикажут... Их боятся... Они ходят в отрепьях, как ты, но на самом деле они очень богаты... В их руках тайна... Они берут к себе, только после испытаний... Страшных испытаний... Не все выдерживают; но, если ты выдержишь, ты окажешься на Корабле... Их выкинул мир, и они построили свой Корабль...
– Стой! – оборвала я солдатика. – Ты не придумываешь?
– Клюнусь моими ранами на Зимней Войне, – надменно кинул солдатишка и немедленно задрал штанину над сапогом, показывая рубцы и шрамы.
– Где другие солдаты?
– Спят. Умотались. Им уже невмоготу от пересадок. Они проспали Красный Узел. А мы не спим. Мы завязались с тобой в Красный Узел, Ксенька. Если ты со мной не пойдешь... – Он сдернул с плеча оружие. – Вся железная начинка в тебе будет. Вся железная икра.
Он удивился моему невозмутимому лицу. Брови его поползли вверх.
– Ты не боишься смерти?
– Я не боюсь смерти, потому что я – это ты, – наставительно сказала я гололобому. – Еще потому, что ты – мой сын. Как ты вырос, мальчик. Я пойду с тобой. Я не оставлю тебя больше. – Горло мое перехватило. – Не пугай меня железной игрушкой. Я пойду с тобой поглядеть на Выкинутых За Борт. Я и их не боюсь. Я не боюсь их золота. Когда девочке протыкают уши, в кровавые мочки вставляют золотые серьги. Может, они лечатся золотом. Пойдем!.. излечим их до конца.
– Наш поезд!.. – закричал солдатик, присел на корточки и замахал рукой, и засвистел, сложив пальцы рогаткой. – Тю-тю!.. убегай, железный заяц, уноси ноги!..
Состав, оторвавшись от станции, несся вперед на всех парах. Мы схватились с солдатиком за руки и побежали. Автомат бил его в грудь.
– Ты знаешь, куда бежать?.. – шепнула я ему, задыхаясь на бегу.
– А то нет?.. – горделиво вскинулся он. Дышал шумно. – Это все знают. Вон, видишь, дорога к Кораблю отмечена красными огнями. Чтобы люди не перепутали.
Мы одни летели по ночной мрачной улице – я босиком, он в тяжелых сапогах, отпыхиваясь и отдуваясь. По обе стороны пустой улицы горели ожерелья кровавых фонарей. Рядом с каменными домами притулились деревянные, в них окна были забиты досками, двери заколочены крест-накрест. Дома были приговорены. Камень пожирал дерево.
В конце унизанной багряными горящими каплями улицы высился кирпичный длинный дом, похожий на корабль. У него были нос и корма, на крыше на ветру бился флаг цвета темной венозной крови. Холодные звезды осыпались над ним, звенели о застылую жесть. Все окна в доме горели. Выкинутые За Борт бодрствовали. Около входной железной двери завыла собака, солдатик пошарил в кармане и вынул горбушку, оставшуюся от вагонного ужина.
– На, пес, пожуй, – ласково сказал, – плохо тебя кормят богачи.
Он стащил с себя автомат и прикладом оглушительно застучал о железо.
– Эй! Выкинутые! Отворяйте!.. Пополнение пришло!.. Нас тоже выкинули!.. – заблажил солдатик, подмигнул мне, шутливо наставил оружие на дверь, будто расстреливая ее.
Дверь распахнулась настежь. На пороге стоял мужик. Маска медведя взъехала ему на затылок. Клыки у чучела желто, медово блестели. Мужик стоял перед нами в сером балахоне с прорезями для рук и ног. Он посмотрел мне в глаза. Я выдержала этот взгляд.
– Выкинутые принимают вас на корабль, – процедил он, и я увидела, что зубы его выкрашены в черный цвет. – Согласны ли вы быть слугами выкинутых? Согласны ли вы работать на корабле в машинном отделении, там, где крутится маховик? Где вращается Колесо?
– Колесо – это страшно? – спросила я без тени страха. Я видела как бы со стороны, свое лицо: губы побелели от холода, ночные огни бешенствуют в глазах, зубы стучат друг об дружку.
– Согласны, согласны! – выкрикнул за нас двоих солдатик. – Только пустите скорей! А то поджилки трясутся. Мороз. Да мы еще сбежали. От поезда отстали. Как бы за нами погоню не выслали!
– Идите за мной!
Человек с маской медведя на темени стал подниматься по лестнице, мы – за ним. Я видела перед собой качающуюся спину. На серой рогоже было вышито золотой нитью грязное ругательство. Уши мертвого медведя вздрагивали. Длинный коридор, огромный коридор. Гудки, склянки – да, это корабль. Шум машин. Тряска. Ощущение не обманывало меня – здание тряслось, подпрыгивало, вибрировало, дрожало крупной дрожью. Несомненно, в недрах подвала был спрятан устрашающий гигантский механизм, сообщающий всей кладке и арматуре неистовую звериную дрожь. По винтовой лестнице мы взбежали на чердак, и у меня закружилась голова. Это был не чердак. Это был Мир Иной.
Под потолком горели круглые, похожие на перевернутых на спицу черепах колоссальные люстры. На полу валялись, крест-накрест, стальные пожарные лестницы, на них кучками, горстками, как птицы, сидели Выкинутые. Одежда на них была сверкающая – красный атлас, черный бархат. Изредка среди бархата мелькала рогожа, подобная той, что была на человеке-медведе; бритый затылок; нищая котома, из которой торчали кости и оглодки. Богатые и бедные. Они словно хотели это сказать – в мире есть только богатые и бедные. Третьего не дано. Если солдатик не врал, они все были богатые. Они играли в бедных, они рядились, сотворяли карнавал. Я, хлебнувшая вдосталь бедности и скорби, тянувшая на площадях руку за копейкой, знала хорошо, как тяжка и невыносима правда, как хрипнет глотка, когда надо разлепить губы и вытолкнуть просьбу, прощение, милость, пощаду. Моя просьба часто звучала как милостыня. Я собой, своей душой и любовью, подавала идущему мимо; а ему казалось, что это он мне подает, что он меня облагодетельствовал. Я, бедная, сидела у его ног, и он, прохожий, глядел на меня сверху вниз; это давало ему повод думать о власти надо мной. Он откупался от страшной правды монетой. А эти люди, Выкинутые? Здесь? От кого откупаются они беспощадной игрой в нищих и изгоев? От самих себя?..
Прямо на полу были разожжены костры. Ненастоящий огонь? Бутафорские красные тряпки?.. Подошла ближе и чуть не обожгла босую ступню. Правдивее пламени нельзя было придумать. Распатланная старуха сидела близ костра, ворошила угли и головешки, ворчала глухо. Я осмотрелась. Многие были в масках. Маски словно налипли на лица, приросли. Кое-кто вздернул маску на темечко, как это сделал человек-медведь, кто-то повесил на грудь, раскачиваться на тесемках. Поперек чердачной стены висел красный транспарант. На нем было намалевано белой малярной краской:
НАМ ДАЛ МОГОЛ СТАЛЬНЫЕ РУКИ-КРЫЛЬЯ
Я присмотрелась. Из-под бархатных складок, из-под балахонов и атласных вихрей там и сям виднелись железные суставы. Деревянные плашки. Жестяные и картонные кресты и скрепы. Марлевые и полотняные перепонки. У них у всех, у всего народа, рассевшегося перед самодельными опасными кострищами внутри дома-корабля, были огромные ненастоящее крылья. Сидел и молчал крылатый народ, выродки, ублюдки и бастарды в бархатах и шелках. Выжидательно смотрел на вновь прибывших. В глазах людей я увидела перевернутый мир.
– Что вам надо? – сурово спросил мужик в длинном красном хитоне, вставший навстречу нам из-за костра.
– А мы вам нужны? – не растерялся мой солдатик и воздел автомат над головой. – Мои пули – ваши! Моя жизнь – ваша! Та – надоела! Хуже горькой редьки! Гибель-то все равно одна! Хоть на Зимней Войне, хоть на Летней! Воевать, так одному, самому, выкинутому, с Выкинутыми За Борт! Жить – так жить, уписывать жратву за обе щеки! Помирать – так знаменито! Со скандалом! Чтобы потом сто лет спустя все про тебя говорили, говорили!..
– А это кто с тобой? – Кивок головы в красном капюшоне в мою сторону был жесток и неодобрителен.
– Это?.. – Солдатик моргнул, затравленно поглядев на меня. – Это-то?.. Да это... это...
Он не находил слов, чтобы обозначить мое предназначение на земле и свою маленькую роль при мне. Он боялся сказать, что я поднадзорная, и в то же время страшился сообщить, что он при мне слуга, прислужка, проводник и посыльный. Красный понял заминку по-своему и расхохотался з зычно, смачно.
– Ясно. Шалаву тоже берем. Медведь! – крикнул он и взмахнул указующей рукой. – В кочегарку их. Пусть покрутят Колесо для начала. Объясни им, что к чему у нас.
– Объясните мне сами, – сказала я и шагнула вперед.
Красный опешил. Я нарушила обряд почтения. "В костер ее!" – завопили сидящие. Старуха, мешавшая кочергой угли, вскинула голову и уставилась на меня пустыми перевернутыми глазами.
– Хорошо, – сказал Красный после того, как бесстыдные глаза его влезли глубоко в меня и вспахали меня вдоль и поперек. – Ты понятливая. Ты все поймешь. Ты бродила по миру, но ты не знаешь, кто на самом деле правит миром. Смотри.
Он распахнул плащ. На голой груди висела маска.
Маска вырастала из живой кожи груди, из надключичных костей и ребер, горела ядовито-краскным, фосфоресцирующим цветом, как бы кричащим: “Боль! Опасность! Ужас! Не подходи!" Выпученные глаза с оранжево-багровыми белками медленно вращались в глазницах. В раскрытом рту, меж зубов, шевелился жирный красный язык. Клыки, выкрашенные черной смолой, доходили до подбородка. Лицо не лицо, морда не морда, маска излучала ужас, подобного которому не вызывало ничто, виденное и слышанное мною на земле. Супротив ужасу подымалась, из глубин существа, волна отвращения. Отвращение было слабым щитом. Маска могла его разбить в куски, лишь приблизившись на йоту. Я не двигалась с места. Не подходила. Маска блюла свой ужас, стерегла его в одиночестве. Она торжествовала; из всех ее пор и дырок сочилась сладкая сукровица удовлетворения. Она понятно, без обиняков говорила, что она властелинша, а уж тот, с кого она, жалкая, была лишь мертвым слепком, – и подавно.
– Ну? – сказал Красный, когда я вдоволь насмотрелась на маску. – Ты умная? Или дура? Разъяснять что-нибудь? Или не надо?
– Вы предполагаете... когда завладеть миром? – вместо ответа весело спросила я.
Красный довольно улыбнулся, и снова под чердачными сводами, в ослепительном свете люстр-черепах раздался его хохот – густой, вязкий, похотливый. Он хохотал долго, и Выкинутые обеспокоенно зашевелились, ссутуленные у костров, переглядывались, вытягивали лица – с их вождем Красным сделалось нехорошее, а может, схватить пришельцев, это они всю воду взбаламутили, сцапать их да растерзать, бросить под Колесо, пусть их расплющит, перемелет. Мир – мельница. Топор. Всегда востребована чья-то голова. Эти двое – жертва. Наша жертва. Отдадим их Колесу. Два бедняка. Два снежных мотылька. Они никогда не заимеют наших богатств. Они никогда не узнают, что такое власть. Власть над миром. Когда-то и мы были изгои. Отщепенцы. Нас выкинули за борт. Выкинем и мы их. И они, если останутся чудом живы, пусть тогда строят свой корабль.
– Взять их, о Красный?! – завизжали из кучки Выкинутых близ рыжего костра. Красный отказно покачал головой.
– Мы уже правим, о дурочка, – снисходительно проговорил он и потрогал черные клыки нагрудной маски. – Мы уже сияем красным светом. Не отраженным. Своим собственным. Маски, медвежьи, волчьи морды, клыки – все понарошку. Все елочные игрушки. Наша власть страшнее. Мы просто любим, как дети, в игрушки поиграть. На деле все иначе. Все проще. Нас в свое время обидели. Сильно обидели. Мы были беднее бедного. Нас забивали насмерть. Над нами глумились. Нас поливали дерьмом, зачерпнутым из тюремного очка. В конце концов нас выкинули за борт. И мы сцепили руки. Мы сказали себе: так! в мире нет ничего, кроме богатства и нищеты; кроме власти и рабства. Надо только все поменять местами. И лучше поменять все местами незаметно. Пусть те, у кого власть, продолжают думать, что власть у них. Власть у нас. Они думают – деньги у них! Деньги у нас. Мы играем в страшные игрушки, да. Это чтобы их обмануть. Пусть думают: Сатана, Сатана... Сатана один. И мы – Сатана, и они – Сатана. Эта маска на моей груди – чтобы обмануть Сатану. На самом деле он прост и страшен. Он совсем обыкновенный. Он незаметный. Он простой. Он везде. Он приходит к нам запросто. Потому что мы запросто с ним. Мы, Выкинутые За Борт навсегда, научились от отчаяния говорить на его языке. Он оказался совсем несложным. Он оказался вообще без слов. Это оказался вообще не язык. Но мы заговорили на нем. Заговорили! – Он возвысил голос. – Когда были на дне жизни. В аду смерти. В трущобах. На свалках. В грудах отбросов. Мы поняли одно: если мы не научимся его языку, мы погибнем, и наши косточки сгрызут бродячие собаки, и память о нас проклянут наши внуки; а и внуков-то у нас не будет, ибо какое потомство у Выкинутых?! Песь да парша, да в горсти анаша. И когда первые из нас заговорили... заговорили... – Красный передохнул, задышал тяжело, шумно, возбужденно. – И он нас понял... понял... и... ответил...
Выкинутые вскочили, простерли руки над огнями. Люстры сыпали им на затылки радужные алмазные искры.
Красный схватил и сжал меня за плечи. Его лицо исказилось.
– Он сказал нам: возьмите и владейте! Сделайте так, что все умрут! А вы останетесь! Только вы! Одни вы на всей земле! Не Выкинутые, а Владыки!
Он швырнул меня с силой, и я упала на руки солдатику.
– В машинное их! – крикнул Красный. – К Колесу! Пусть узнают, как доставался нам наш хлеб! Наша судьба!
Нас подхватили под мышки и поволокли вниз по лестницам, клеткам, переходам, подземным ходам. Земля раскрылась перед нами. Лабиринты раздались. Мы оказались в диком подвале; потолок уходил в бесконечность, толстые трубы лились и перекрещивались, и мы переползали через них. Все было покрыто слоем пыли толщиной в палец. Легкие забились, сжались. Стало тяжело дышать. Слой воздуха надавил сверху. Подземелье дрожало и сотрясалось от стука и грюка. Адская машина работала, работала. Смертное Колесо вертелось, ждало жертв и рабов. Я увидела его издали. Оно было деревянное, железное, кожаное, стальное, костяное, ребрастое, перепончатое, сумчатое. Оно вращалось больно и натужно. Из-под его обода сочилась красная жидкость.
– Мы смазываем его кровью, – усмехнулся приволокший меня. – Кровью, чтобы легче крутилось. Чтобы те, кто крутит, знали цену его вечному верчению. Берись за рукоять! Живо!
Я взялась за деревянную рукоять и посмотрела Выкинутому в глаза. Из-под плаща у него торчали ненастоящие крылья. Я толкнула крыло ногой, деревянные штыри сломались, железо зазвенело. Выкинутый перекосился от неожиданности и обиды.
Он крикнул мне:
– Верти! Верти, коровья лепешка! Верти, пока я тебя под Колесо не засунул!
Я быстрее молнии схватила его за второе ненастоящее крыло, заткнула оперенье под обод Колеса, с нечеловечьей силой нажала на рукоять, раскрутила маховик. Колесо пошло, поехало, втянуло в неистовость круговращенья бедное, орущее тело Выкинутого. Солдатик и остальные Выкинутые, с сиротливо висящими до пят крыльями, грустно смотрели на меня.
Я села на пыльный под подземелья и заплакала. Я не поняла, излечила я или навредила. Я бы никогда в жизни не убила человека, если бы он собрался убивать меня. Но он собрался моими руками убивать Других. Вот этими руками. Моими. Излечившие стольких. Спасшими таких безнадежных. Воскресившими мертвых. Он хотел, чтобы я своими руками убивала неугодных и неподобных. Других. Всех оставшихся. Всех, кто жил и страдал за бортом их проклятого корабля. Они думали, что он непотопляемый, их корабль. Они не знали, что берут на борт живую гранату. Мину. Бомбу. Торпеду. Он пожелал... он приказал: вращай Колесо и убивай людей. И из-под обода всегда будет течь свежая кровь. И мы вволю посмеемся над тобой. Над спасительшей. Мы сделаем тебя перевертышем. Мы сделаем тебя убийцей. И тогда ты поймешь, дура, кто правит миром.
Солдатик сел рядом со мной на корточки и стал утешать меня. Он утешал меня нежно и ласково. Он плакал вместе со мной.
– Ну не плачь, – взрыдывал он, содрогаясь всем юным и хлипким тельцем. – Ты не убивала его. Ты не убивала. Он сам такой злой. Такой плохой. Он сам нарочно сварганил эти крылья, чтобы затолкать их под Колесо и умереть. Не плачь.
– Сейчас меня убьют, – плакала я горько, – сейчас меня опять казнят. Мне надоело умирать. Боже мой, Боже! Возьми у меня мою жизнь раз и навсегда! Не возвращай мне ее больше!
– Тебя не казнят, – шептал солдатик утешительно. – Смотри, как тихо. И все они стоят, тебя не трогают. Ждут. Думают. Они думают о тебе. Клянусь, Ксения, они думают о тебе!
Колесо вращалось, скрипело, перемалывало в красную кашу несчастное тело крылатого недоумка.
Народ стоял в перекрестках подвальных труб и молча смотрел на сидящих в пыли, горько плачущих женщину и юнца. Нет, не приделать им нелепые крылья, думали Выкинутые. Скорей у нас самих вырастут крылья настоящие. Красный велел, чтобы они поработали в подземелье. Они и будут здесь работать. Для начала дадим бабе тряпку и котел. Пусть все вымоет тут и сготовит еду на всех рабов. Вот она – и поломойка, и стряпуха. А солдата оставим при ней, мух от еды отгонять. А Красному не скажем ничего. Утаим от него, что они здесь и живы. Мелкие они сошки. Уличные приблудки.
С подвального потолка капала вода. Трубы гудели. Вращалось Колесо, трещали оструганные доски, железо выбивало лучи, стукаясь о железо.
– Вы нас оставите жить? – спросила я, ни на минуту не веря этому.
Выкинутые За Борт повернулись и тихо и медленно ушли из подвала, не сказав ни слова, и ненастоящие крылья их волочились за ними по мусору, пыли и падали.
“Каюсь пред Тобою, Господи, что не могла им помочь –
тем, кто отверг Тебя, тем, кто отвернулся от Тебя;
горько плачу пред Тобой о них, как о себе не плакала никогда”.
Покаянная молитва св. Ксении Юродивой на Всенощном бдении