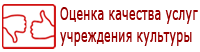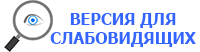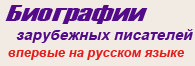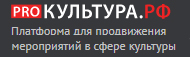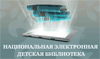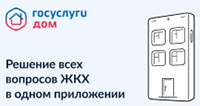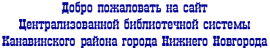
11
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
“Хранительница жизни всей, Пречистая Богородица,
дай мне уплыть на Корабле веры моей и любви моей
туда, где протяну, как к Солнцу, к Тебе, Всепетая, грешные руки мои”.
Канон молебный к Пресвятой Богородице св. Ксении Юродивой Христа ради
(РИСУНОК К ДЕСЯТОЙ ГЛАВЕ: КОРАБЛЬ – СИМВОЛ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ)
ИРМОС КСЕНИИ О ВИДЕНИИ ЕЮ ДИАВОЛИЦЫ
Ксения застонала, перевернулась с боку на бок и укуталась потеплее в широкой и рваной тряпку, бывшую когда-то одеялом.
В щели халупы, где она укрылась от непогоды, нагло дул ветер.
Ветер пел и выл в трубе, стучал о крышу, ярился под брюхами черных и серых мохнатых туч.
Ей снился сон.
...Она стояла на лестнице в большом и мрачном доме, где люди не жили всегда, а останавливались на время– в доме странноприимном и гостевом, с тяжелыми решетками подъездов, с засаленными дверями. По лестнице, навстречу ей, поднималась девушка, толстая, в богатой собольей шубке. Темный мех соболя искрился звездами. Девушка ослепительно улыбалась Ксении. “Помогите мне! – Ее подбородок просительно дрожал. -Едемте со мной! Спасите меня! Там, внизу, ждет нас... повозка...и водитель...Умоляю вас...” Шубка шла по лестнице впереди, Ксения сзади. Она никогда не могла отказать, если просили. Когда они садились на лайковую кожу сидений, шофер оскалился. Это ловушка, Ксения. Ловушка. Как ты не догадалась раньше. Запахнутая стыдливо шубка медленно, нахально расходится на груди и животе белозубой девушки. Ксения видит складки мяса. Жира. Толстой, маслено нависающей плоти. Она голая под шубой. Голая, белая, с жемчугом вокруг зобатой необъятной шеи. “Едем, – говорит она надменно, уже голосом владыки. – Едем, я заполучила тебя. Не вздумай сопротивляться – у моего шофера оружие, ты и пикнуть не успеешь. Сиди тихо.” – “Ты кто?” – “Я-то? – Злобный хохоток. – Ты сама догадалась. Курва я. Едем снимать желудей. Ты будешь тоже это делать. Мне помогать. А разве ты не блудница?” Ксения глядела на жирную девушку во все глаза. “Нет.” -”Врешь! Я тебя насквозь вижу! Я не ошибаюсь! У меня глаз наметан! Ты настоящая блудница! Ты будешь работать в паре со мной! Я тебя не отпущу”. Ксения оглянулась – шофер, ухмыляясь, из-под колена показывал ей дуло. Мотор заведен; пространство рвется; время пахнет бензином из бензобака. Машина останавливается у больничного крыльца. Ксения смекает, что к чему. Все надо делать быстро. Очень быстро. Это такая пора: зазеваешься – и проиграл. Под видом: “Сейчас я сниму вам... нам... желудей!.. клиентов...”, – она распахивает дверь такси, вбегает на крыльцо, взмывает по лестнице; ей наперерез телепаются нянечки с утками и швабрами, сестры милосердия со шприцами и кварцевыми лампами, на нее наезжает каталка с тяжелым, после операции, хрипло дышащим больным, он таращит на Ксению из-под повязки, закрывающей все его лицо, до боли родные глаза... вот и ординаторская, она рвет дверь на себя, высокий бородатый врач наступает на нее, пытаясь утихомирить, образумить. “Тише, тише. Вы... сумасшедшая. Но ничего страшного. Сейчас мы вас уложим в чистую постельку. Напоим вкусным питьем. И вы заснете. Заснете надолго. И спать будите крепко и сладко”. Ксения отчаянно машет головой. “ Там, там... сумасшедшая. Она там... внизу... Я ее пленница. Она хочет окунуть меня в ужас. В ужас жизни, которой я еще не жила. Я не хочу жить такой жизнью! А она приказывает мне! Велит! Она сама этой жизнью живет! Что мне делать?!.. Спасите...” Врач, теребя бороду, внимательно смотрит на Ксению, не веря ни одному ее слову, и она с ужасом понимает это. “Так, так. Ну что ж, – роняет он. И заговорщицке шепчет: – Мы сейчас...вас спасем. Не бойтесь. Мы вас... отправим отсюда на другой машине. На “скорой помощи”. И уйдете вы черным ходом. И уедете в другую сторону. И не увидите вашу тюремщицу больше никогда”.
Дверь отъезжает. На пороге жирная, в шубке. Ее острые зубки адски блестят. Искрят серьги в ушах.. Врач, пятясь, закрывает телом Ксению, потом хватает за руку и вытягивает в коридор; они бегут, задыхаясь, он втаскивает ее в холодную пустую палату. “Быстро ложитесь. Притворитесь больной”. Пустая койка, и Ксения ныряет в нее, под утлое больничное одеяло. Ее бьет истинный, неподдельный озноб. Врач кладет ей руку на лоб, отдергивает ладонь, как от огня. Скрип двери. Они оба, Ксения и врач, неотрывно глядят на медленно открывающуюся дверь палаты. Жирная, с блестящими зубками и алмазиками в ушках, появляется на пороге. На ее лице с тремя подбородочками – торжество и упоение. “Я так и знала, что ты здесь, блудница. Ты не хочешь быть блудницей. Но ты будешь ею. Ты чистенькая. Ты боишься замараться”. Жирная подходит к кровати, на которой под серым вытертым одеялом лежит Ксения, и сдергивает одеяло с Ксеньиного тела. “О! Красотка. Нам такие нужны. Доктор, выдайте ее мне! Я вам хорошо заплачу”. Жирная вынимает из кармана шубки цветные бумаги, многоцветных бумаг, швыряет их в лицо врачу, разбрасывает в кварцевом воздухе. Берет Ксению за руку, дергает, пытаясь поднять с кровати. “Пошли! Живо!”
И Ксения не выдерживает. Вскочив она сжимает кулаки и впивается в лицо жирной горящими глазами. У жирной рука размахивается для удара – так тяжел, невыносим Ксеньин взгляд. Ксения пригвождает жирную глазами к стене. Жирная толкает Ксению в грудь. Бьет по щеке. “Ну, подставь другую!... Подставь!..”
Ксения подставляет другую щеку. Но в глазах ее такой свет, ненависть, радость, превосходство, счастье быть, жить и пребыть другой, не такою, как жирная, такое своеволие и озорство, такая победа, что жирная пятится от подставленной для удара щеки, как черт от ладана, и ее ногти царапают воздух близ Ксеньиного гордого лица.
Жирная не может ударить ее. Не может.
Меж распахнутых соболиных пол мотаются налитые висячие груди.
Ксения шепчет: “Ты никогда не кормила... ребенка?..”
“Я все равно сделаю тебя блудницей”, – со злобой чеканит жирная. “ На таких, как ты, опытные люди делают большие состояния.”
“Я уже побыла блудницей на этой земле, – с улыбкой говорит жирной Ксения, не отворачивая лица. – Меня звали просто: Мария из Магдалы. А ты была моя товарка, Мария из Египта. И еще у нас была подруга, актерка Таис. Великая Таис. Она тоже была блудницей, и еще лицедейкой. Ее рыжие волосы расчесывала вся Антиохия. Иди-ка ты отсюда, Мария Египетская. Возвращайся в свой Египет. Продай свою шубу. Лишь ума ты на вырученные деньги не купишь. Да тебе он и не надобен, ум. Ты и без него проживешь.”
Жирная пятится, пятится. Ее румяное, булочное лицо искажено, заплывшие глазки расстреливают Ксению. “Я тебя еще достану. Я еще добуду тебя. Ты еще послужишь мне. Послужишь. Как миленькая”.
Врач шепчет, бледнея: “Она... правду говорит. Она придет к тебе в расстрельную ночь, Ксения, она будет среди тех, кто придет расстрелять Великую Семью и тебя. Тогда берегись ее. Ты узнаешь ее морду. Ее зубки. Ее алмазики в ушах. Беги от нее. Беги. Беги!”
Он разбивает локтем стекло палатного окна. Ксения, ранясь осколками, покрываясь кровавыми полосами, спускается из окна по пожарной лестнице, молясь и смеясь, и глаза ее горят ярче зимних звезд.
...и глаза мои горят ярче зимних звезд; и понимаю я, что сон вещий мне послан; что я увидела Дьяволицу, а когда Диавола самого въявь увижу, покажут ли мне? Еще того не знаю...
КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ СВЯТОГО ДУРАКА И ИХ ПУТЕШЕСТВИЯ НА МЕРТВОМ КОРАБЛЕ
Ноги мои нашаривали железную лестничную перекладину, не нашли, я закричала, повисла в пространстве, стала падать и проснулась.
Рядом со мной спал мужик в сером холщовом балахоне с капюшоном. В халабуде, затерянной в полях, было адски холодно, и мужик натягивал сползающий капюшон на лоб и уши, чтоб не мерзла голова, обритая, покрывающаяся исподволь колючей страшной щетиной.
Мы были двое юродивых, и мы спали вдвоем в нетопленом сарае, бывшим когда-то человечьей избой. Я вспомнила все, наморщила лицо и заплакала.
Я шла на север, все время на север. Я знала, что иду верно, ибо становилось все холоднее и мрачнее, синевы уже было не видать за волчьим мехом нечесаных туч. Из туч на землю то и дело валился снег, таял, замерзал, застывал в яминах и буераках белыми сухими слезами. Я подобрала несчастненького в поле, поодаль от большого села, от пятистенных черных изб, похожих на родные, но в них люди говорили на незнакомом языке. Мне было все равно, на каком. Мне все равно было, говорят люди или молчат. Если мне надо было попросить еду, я просила ее жестами, глазами. Люди, говорящие на чужом наречии, понимали меня. Они выносили мне разное– кто хлеб, кто воду, кто молоко, кто кусочек буженины, кто черствую обгрызенную корку, и это был самый драгоценный дар– я понимала, что люди отрывали от сердца последнее. А беднягу я узрела в поле, под деревом, он сидел, плакал, делал себе примочки из грязи – сильно его избили, однако, весь синел и краснел кровоподтеками, – раскачивался и напевал сквозь слезы красивую чужую песню. Я остановилась рядом с ним. Он испуганно покосился на меня. Ком грязи выпал из его ладони, плюхнулся в лужу. Осеннее дерево над ним роняло последний багрянец в раскисшую сырую землю. “Мы ляжем в землю, как эти листья”, – сказала я бедолаге и улыбнулась. Он улыбнулся мне в ответ. Я немедля села рядом с ним на холодную землю и поцеловала его, и он не отстранился.
Я уже не знала, был это сон или явь была. Явь и видение – где пролегала граница между ними? Я божилась и клялась, а вместо этого надо было просто пахать землю, сеять хлеб, рожать детей, умирать от тяжелой жизни. Тогда людям снятся сны без сновидений. Чем людям тяжелее, тем они счастливее. Но ведь и мне не легко приходилось.
“Пойдем, дурачила! – сказала я и потянула его за грязную руку. – Будем вместе горе мы терпеть. Хочешь?” Он хотел; он пошел со мной.
Мы шли и шли, не думая особо друг о друге, питаясь чем Бог пошлет, что люди протянут; но однажды мне стало любопытно, чем он одержим, мой бедняга – слишком сильно пылали его впалые глаза огнем, потусторонним и торжествующим. Он сел на корточки, схватил палочку и стал рисовать на подмороженной первыми зазимками земле хитрые рисунки. Я всмотрелась. Это были очертания корабля. Сочленения клепаных досок. Перетяги. Канаты. Мачты. Реи. Я села рядом с рисунком на подмерзлую землю и свесила свои золотые волосы, пачкая грязью пряди. “Корабль?.. Да?..” Он затарабанил на своем птичьем языке. Закивал, как индюшонок. Я счастливо рассмеялась. “Так давай вместе его искать, твой корабль!..” Он вскочил, схватил меня в радостном исступлении и стал подбрасывать в воздух. Я визжала и хохотала. Мы оба задохнулись.
Потом, наигравшись со мной, он поставил меня наземь – становилось совсем морозно, и он вытащил из кармана балахона вязаный дырявый платок, его он украл, должно быть, на ярмарке в селе у зазевавшейся старухи, из другого – лисью шапку, столь же древнюю, траченную молью, и заботливо замотал меня во все великолепие платка, во всю золотую рухлядь шапки, ласково проговаривая неведомые слова, касаясь моего лица пылающими пальцами.
Он был одержим кораблем. Он хотел его найти. Он показывал рукой на север: туда, туда. И мы шли туда, сбивая ноги в кровь. Мы спали где придется, ели что попало. Наконец оно разостлалось перед нами – огромное белое море, холодное, как сливки из погреба.
Снег вихрился вовсю, устилал корявую железную землю мелкой манкой. Мы брели вдоль прибрежных валунов, спотыкались о коряги. Я ничего не говорила ему – он так же понимал меня, как и я его. Но я видела, как все ярче горели его глубоко воткнутые в лоб глаза.
На корабль мы набрели неожиданно. На мертвый корабль. На скелет корабля. В сумерках перед нами зачернел остов, кости арматуры. Палыми листьями свисала отодранная, сгнившая кожа обшивки. Вместо парусов мотались дырявые охвостья, небесные бинты. Я присела на землю от ужаса и счастья.
– Видишь, видишь, нашел!..
Он резко обернул ко мне лицо, капюшон сполз ему на затылок, и я увидела, что волосы его отросли и покрывают темя сияющим пушком. В радости он стал похож на ребенка. “Кр-кр-кр-кр!” – сказал он мне по-птичьи. Корабль возвышался над нами, огромный и погибший. Внутри него жили птицы. Горстка птиц вылетела из открытого в палубе люка, застрекотала, взвилась в пасмурное небо, растаяла. Мой бедолага протянул мне руку: лезь. И он полез наверх, на корабль, карабкаясь по железякам арматуры и вбитым в борта великанскими гвоздям, и я полезла вслед за ним.
Мы стали жить в корабле. Наступила зима. Корабль был нашим зимовьем, нашим Китом, а мы были его Ионы. Мы дрожали у него в брюхе, осторожно разжигали в кубрике костер. Мой несчастный жестами изъяснял мне, какой он счастливый. И однажды я ухитрилась задать ему на пальцах вопрос: а мы поплывем на корабле когда-нибудь? И он понял, и закивал, и залопотал по-своему, сбивчиво и быстро. И я поняла: ну да, да, конечно, а как же, поплывем. Далеко поплывем. Нас никто не догонит.
И я стала ждать отплытия. Я мерзла – зима выдалась суровой. Я ходила по берегу моря, собирала засохшие водоросли, заснувших в расщелинах скал мидий и варила из них суп; тайком от моего бедняги бегала побираться в маленькую деревню, притулившуюся за ближним перелеском; мне совали в горсть то краюху, то круг застывшего на морозе молока, то вяленую рыбину, и соль выступала у нее под жабрами и на хвосте. Я спрашивала жестом: когда? Он не отвечал. Глядел сквозь меня светлыми, прозрачными, как море, глазами. Чье лицо я видела в его иссеченном соленым ветром и метелью лице? Чьим именем я хотела его назвать? Имя готово было сорваться у меня с языка. Но я втягивала ледяной воздух, и язык замерзал, и слово смерзалось во мне.
А он строил корабль. Он восстанавливал его. По щепочке, по дощечке. Он делал гвозди из обломков медных подсвечников, найденных в прибрежной полуразрушенной древней церкви. Он замазывал щели и дыры птичьим пометом, коровьими лепешками, липкой глиной. Он обжигал сырые доски диким факелом и просмаливал их пахучей хвойной смолой, которую собирал в прибрежном леске в потерянную века назад на корабле табакерку – должно быть, капитанскую.
И настал день, когда он рукой позвал меня: “ Иди, иди! Гляди!”
Метель била мне в лицо. Лисий мех ласкал скулу. Я, съежившись, защищая от ветра грудь и шею под рогожей мешка, глянула исподлобья.
Корабль, утыкавшийся недавно разломанным носом в песок, в занесенные снегом камни, стоял и покачивался на иссиня-зеленой, темной морозной воде, отражаясь в ней целиком – с бушпритом и мачтами, с драньем ветхих, аккуратно заштопанных парусов, с килем и ржавым якорем, виснущим тяжелой черной лапой над бликами воды.
– Как ты сделал это?! – крикнула я. Голос замерз на лету и осыпался льдинками.
Он молчал, улыбался. Опять я вздрогнула от света его дуроватого, расплывшегося в неистребимой радости лица. Имя морозило, сводило мне губы. Я не могла его произнести.
– Мы плывем? – беззвучно спросила я, подошла к нему и положила руки ему на плечи.
Он, как цапля, закивал головой, схватил меня на руки, раскачал и забросил на палубу; я едва успела уцепиться за хребет лестницы, чтобы не разбиться. Через миг он уже был рядом со мной. Корабль шатало, вода мерцала зелено, масляно. Снег шел вовсю, пелена снега накрывала нас, как простыней, как хмелем. Это как свадьба, подумала я и испугалась, что он услышит мои мысли. Он и вправду их услышал. Хитро сощурился. Приблизил губы к моим губам.
– Давай я расскажу тебе о своей родине, – сказала я весело, чтобы отдалить неизбежное. – О своей родине, где на рынках продают облепиху, оранжевую, как щучья икра, как царские топазы, и осетров величиной с бревно. О родине моей, где вечно идет Зимняя Война, а людей убивают, как зайцев в чистом поле, и улюлюкают и смеются им вослед, видя, как заяц бежит, хромая, и помирает. Давай!.. Послушай, дурак, как чудесно жить в земле, где добро – сумасшествие, где радость – зло, где все стоят на головах и ходят на руках, утверждая, что так и надо, и только так, а вместо лиц у людей зады. Не наклоняй ко мне лицо. Оно у тебя горячее. Я обожгусь. Я знаешь сколько видела мужских лиц рядом со своим?.. и еще увижу. Ты меня не удивишь, мужик. Не старайся ты. Меня не прельщай.
Это были бестолковые уговоры. Он слишком близко придвинулся ко мне. Наклонил голову, схватил зубами золотую прядь моих спутанных кос. Держа мои волосы в зубах, стал щекотать мне ими подбородок, щеки, губы. Снег садился на наши головы, таял, мокро лепился к бровям, к затылкам. Старая палуба трещала под ногами.
– Ты же дурак, – слышала я свой шепот, – ты же совсем дурак. И что я буду с тобой делать. Не век же мы будем вместе. А миг. Не возьмешь же ты меня с собой. Не возьму же я тебя с собой. Зачем ты хочешь меня взять? Присвоить?.. Ты думаешь, это будет к счастью?..
– Кр-кр-кр-кр, – ворковал сумасшедший, обнимая меня, а корабль медленно и неумолимо отходил, отползал от колючего каменистого чужого берега. Куда мы плыли? Но ведь плыли же. И не было под рукой ножа, чтоб полоснуть по руке, чуть выше пястья, и убедиться, что все это не сон, что все – безумная явь.
Он встал передо мной на колени и поцеловал мой живот, потом скрючился в три погибели и поцеловал мои босые ноги. Мы плыли! Я села передним, согбенным, на корточки. Я гладила его капюшон, его небритые щеки, его лоб в решетке мелких морщин, его истово улыбающиеся губы. Сидя на корточках, я стянула мешок через голову. Мне ничего не было стыдно перед ним и с ним, и в то же самое время я дрожала и молилась, чтобы он простил и понял меня и взял меня такой, какая я есть: родную, а не чужую, настоящую, а не выдуманную. Мой путь по земле был настоящим. От горящих распятий на дальнем плато до полета совы в небе Заполярья – все было настоящим, и все было моим. И этот человек мне не снился. Оставалось узнать последнее. Узнать, не снюсь ли я ему. Не есть ли я его сон, так же, как все мы есть горький и сладкий сон друг друга, тяжелый сон земли, короткий, как вздох, сон Бога.
Я сидела голая перед дураком на корточках, на палубе медленно плывущего корабля, и снег нежными пальцами трогал меня, и, оглянувшись, я увидела высоко в сумеречном небе, над палубой, вместо парусов, ветхие холщовые крылья, хлопающие громко на ветру, просеивающие ветер и снег через сито.
– Что это?..
– Кр-кр... – сказал мой бедняга, мучительно скалясь, – к-ры-ль-я, – выдавил он на моем родном языке, и я ощутила на своих голых коленях его бешеные губы.
Поцелуи сыпались на меня как снег. Они холодили и обжигали меня. Для чего существует женщина в мире? Белый свет жесток; черная ночь непроглядно темна. Женщина примиряет и то и другое. Дурак хотел, чтобы я потонула в поцелуях. Грудь моя горела, горели соски и ключицы; я смеялась от чуда, страха и натиска. Он падал на меня градом, он ярился бураном, и если б я захотела отодрать от себя его длинные жадные руки, кольцом сошедшиеся на моей пояснице и за лопатками, то я их не оторвала бы. Так вихрь мнет деревья в зимнем поле, ломает. Я чувствовала себя счастливой оттого, что ломали меня. Мы плыли! Мы были уже далеко от берега! Он истаивал в морозной хмари, превращался в кусок белого непропеченного пирога. И, пока мы важно и плавно удалялись от земли в море, он исцеловал меня всю, как святыню, как идола, как на вечное прощанье, и я не понимала, почему он не делает того, что делают все на свете мужики, когда подпирает их мученическая Божья сила, отчего борется с невыносимым, и я спросила его сдавленным шепотом, стыдясь спросить, желая узнать, пылая краской стыда и счастья:
– Почему... почему ты все никак не возьмешь меня, дурачок?.. Исполни волю... Почему ты... медлишь?.. Ведь все твое – с тобой... И я тоже твоя... На время... на сейчас... на теперь... все, что с нами случается – только здесь и теперь... почему?..
Его заросшее щетиной лицо светилось рядом с моим, он трогал губами мои щеки. Я заглянула в его прозрачные глаза. В них не было дна. Глаза генерала... глаза старика из ковчега... глаза Симона... глаза мальчика-послушника... глаза Юхана... глаза Иссы. Глаза дурака предо мной. И только его глаза. Почему же, когда я их целую, губы мои сводит судорогой и горячие слезы текут по щекам, и я глотаю их, как воду, как жгучую мужскую водку?!
– Кр-кр-кр... – прошептал он, сияя, – к-ра-со...та.
Я дрожала, он держал меня в объятиях, сидя на голых досках палубы. Снег облеплял нас, голых. Беззащитных. И я поняла, что он хотел сказать, говоря на моем языке: красота. Красота была в неприкосновенности. В страсти, что не сбывается. В любви, что бережет и молится и плачет. В безумии, оказывающимся самым мудрым, самым сберегающим на свете. В душе, которая искала не тело, а душу, и вот нашла, и вот поет ей песнь, и радуется ей.
– Да, красота, – шепнула я дурачку, – и это тоже красота, – сказала я и взяла в руку его огонь, и подожгла себя, и вспыхнули мы оба, как головешки, на качающейся палубе, и запылали обоюдно, и наш костер на открытой палубе был страшен и неистов и далеко виден всем ветрам и снегам и людям, плывущим в метельной ночи по масляно-зеленому морю.
И корабль плыл без руля и без ветрил еще долго, рубя пространство и рассекая время, и вслепую причалил к пустынному, занесенному снегом берегу, а на берегу нас ждали солдаты, они настигли нас, они облепили борта, взлезли по канатам и веревочным лестницам, растащили нас, оттащили друг от друга, голых, беспомощных, уплывших в никуда; я видела лицо склоненного надо мной солдата – оно было небрито, каменно, сыто, жестоко. Они схватили нас, и мы не сопротивлялись.
Солдаты кричали на чужом языке, но я опять, как тогда, а амстердамском борделе, понимала их.
– Его – в тюрьму! Это опасный преступник! Он сбежал из форта Фест-Лейден! Все приметы сходятся! Видите, видите, – шрам в виде звезды на левой щеке!..
– Да не в виде звезды, а в виде креста, ослеп ты!.. Вяжи!..
– На принудительные работы?..
– Да, в Тупорылый Форт... Оттуда уж не вырвешься...
– А девчонку куда?..
– Какая девчонка, она же старуха... Разуй глаза...
– Это ее космы сединой блестят в ночи, а поднеси-ка факел ближе, не видишь – прядь золотом играет... Блудница... Славненькая... Сегодня мы распотешимся...
Солдатня полетела, расшвырянная, в разные стороны; надо мной, скрючившейся на палубе корабля нагишом, вырос командир. Что он командир, я поняла сразу – он был весь в кружевах, бантах и позолоченных шелковых витушках. Голенища сапог доходили ему до паха. Он взял меня за подбородок рукой и, сощурясь, всмотрелся в мое лицо. Я зажмурилась. Сколько еще рук вот так будут хватать лицо мое? Сколько чужих глаз – вот так в меня стрелять?!
– И правда, в ней что-то есть, в бедняжке, – выцедил командир и потрепал меня за щеку. – Не хорошенькая, конечно... но притягательная. Странная... Я люблю странных женщин... Они хороши в любви... Скажи, милочка, – на чужом языке ласка звучала, как похабное ругательство, – как ты приклеилась к этому опасному человеку? Бродяжили вместе? Пожалела его?.. Захотелось прижаться к теплому мужскому телу?.. Ха, к такому костлявому!.. Гляди, у меня лучше, – командир рванул кружевной кафтан на груди. – Я нисколько не хуже твоего кавалера. А ты, если тебя приодеть, ничуть не хуже всех наших записных красоток, а не пошли бы они...
В его речи я слышала странные обороты; как будто так и не так говорили в этой земле, будто так вот, как командир, разговаривали в далеком прошлом. Снеговой туман наплывал на мои глаза, и бродяга, связанный, глядел на меня глазами волка, которому всунули в пасть суковатую палку, чтоб не кусался больше никогда.
– Больше никогда, – прошептала я. – Кр-кр...
–...крест, – отчетливо сказал он. – Крест на меня надень. Он упал на палубу, когда я обнимал тебя.
– На каком языке вы болтаете?! – неистово закричал командир, схватил дурака за волосы и с силой потянул его затылок книзу. – Молчать! Куда поползла!
Я ползла по доскам палубы, шаря руками, ища и не находя потерянный крест. “Проснись, проснись, – шептала я себе мертвыми губами. – Проснись, Ксения. Ведь это тоже твое видение. Тоже сон. Ты смешала воедино сон и явь. Ты сумела сделать это. Такого люди не досягают вовек, если даже очень желают. Чьим лицом он смотрит на меня?!”
Под ладонью блеснуло. Я вцепилась в бечевку, рванулась к дураку и нацепила крест ему на шею, еле просунув в круг шнурка его большую, как тыква, нечесаную голову.
Дурак схватил мою голую руку и поцеловал.
– Солдаты, слушайте мою команду! – крикнул командир. – Я забираю девчонку к себе. Она мне приглянулась. Она такая резвая. А парня – в форт, откуда не выбираются уже. Оденьте его! Прикройте его срам! Они не знают стыда! Готовы вывернуться наизнанку! Девчонка будет жить у меня. Я вымою ее как следует... отдраю. Она, видать, из других мест – лопочет по-ненашему. Да наплевать мне. Все женщины в постели одинаковы. А странные – горячей всех. Попробую ее на вкус. Понравится – так женюсь! Что вы эдак выпялились, мерзавцы! Что скалитесь!.. Командир ваш слово держит! Моя Хендрикье померла, так что тут делать?.. На любовницах не проживешь. Богачки все капризные. Ну, понравилась мне это...
– Командир! – Смешливый голос толстолицего солдата занырнул в сдавленный хохоток. – А если она... часом... больна?... Или ты... ей – не приглянулся?..
Меня засунули в мешок, взвалили на плечи и потащили. Перед тем, как горловину мешка увязали высохшей бычьей жилой, я увидела глаза дурака. Он шепнул мне одними губами:
– Сильно будут бить меня. К столбу привяжут. Я работать на них не буду. Я знаю, как умереть, и тебя научу. Когда захочешь умереть, набери в грудь воздуху, закрой глаза и выдыхай медленно, медленно, представляя себе всех людей, сто прошел через твою жизнь. Всю жизнь свою представляй. И когда всех переберешь поименно, вспомни одного, самого любимого, кого хочешь: мать, отца, проезжего молодца, сына, дочь, живого, покойного – единственного. А вспомнишь – больше не вдыхай. Не вдыхай и скажи своему сердцу: ты устало, отдохни. Оно будет яростно биться в тебе, сердце. Оно будет хотеть жить. Яростно жить дальше. А ты обними себя за плечи обеими руками, сдави грудь, крепко-крепко, и только вспоминай единственного, вспоминай. И сдавливай грудь все сильнее, сдавливай. И сердце однажды станет птицей и пробьется сквозь твои руки. И выпорхнет. У тебя потемнеет перед глазами. Не бойся. Это я надеваю на тебя темный платок. Без темного платка тебя не возьмут на небо. Сердце твое на воле, а черное небо, все в звездах, обнимает тебя. И твой единственный целует тебя. Так умирают люди, умеющие умирать. Мне кажется, ты сумеешь. Я хорошо научил тебя. Не открывай тайну никому. Эта тайна только твоя.
Он сказал все это на чужом языке, и я все поняла. Он сказал это двумя, тремя словами. Солдаты ударили его и потащили. Я билась в черной волынке мешка, стонала. Тому, чему научил меня дурак, не было цены.
Командир заставлял Ксению мыть полы. Командир любил чистоту. Ксения брала тряпки, ведра, мыла, щелось, ароматные растворы, наматывала ветошь на швабру, окунала то в горячую, то в ледяную воду. Над тазами вился пар. Ксении приходилось драить до блеска весь огромный дом Командира – от чердаков и мансарды до пахнущих картошкой и капустой подвалов. Жена Командира умерла давно; оставила ему двух детей – мальчика и девочку, прилипших к Ксении в тоске по ласке, как банные листы. Когда Ксения начинала бесконечную, как снегопад северной зимой, уборку, дети весело помогали ей – таскали тазы и чаны, забивали гвозди в рассохшиеся древки метел, мочили в мыльной воде веники и щетки. Работа кипела. Ксении эти авралы виделись праздником. Иных праздников Командир не справлял; он был сухая военная косточка, хоть и кружевной вальяжный разгильдяй, и считал, что женщины и дети должны жить в черном теле. Он давал им читать простые книги, кормил простой едой. Ксении и такая пища – похлебка, жареная картошка, квашеная капуста – казалась пиршеством.
– Мой, мой полы, наводи блеск!.. – бубнил Командир, заставая Ксению за работой. – Чистота – самое великое, что есть в мире. Хорошо, знать, тебя воспитывала мать, в чистом ты доме, верно, жила, если так ретиво орудуешь швабрами да тряпками!... Умница!..
И трепал ее за щеку. Это была высшая похвала и высшая ласка. Ксения милостиво оставила ему только этот жест. Когда ее притащили к нему в дом, полузадохшуюся в туго завязанном мешке, и вытряхнули на пол прямо в спальне, он, недолго думая, сразу притупил к делу. Они долго боролись. Он налегал на нее тяжелой чугунной грудью. Грубо расталкивал ей ноги коленями. Выкручивал, выламывал запястья. Ксения плевала ему в лицо, кусала его щеки и скулы. Прокусила мочку уха. На простыни потекла кровь. Командир захохотал и выпустил Ксению.
– Не любишь?.. не хочешь со мной?.. – прохрипел он весело. – Ну и не надо! Сама придешь. А не придешь – ну и черт с тобой. Все мне с бабой в доме веселее. Ты по-нашему-то хоть кумекаешь?
Ксения наклонила голову.
– А сама можешь рассуждать?.. Нет?.. Ну и не страдай. – он отпыхивался после стыдной борьбы, полураздетый, с волосатой грудью в прорези белья, с лихо закрученными усами. – Ты мне на пальцах все говори, что тебе понадобится. Если тебе понадобится... это, – он хохотнул и прищелкнул костяшками пальцев, – ты не стесняйся, прибегай и залезай прямо сюда, под одеяло. Я тебя согрею!
Ксения утерла пот со лба. Улыбнулась.
Жить она стала на кухне, проводя время за резаньем овощей для супа и чисткой картофеля, спала в ящике из-под картошки, шуршащем сухими очистками, пахнущем землей и осенью. Дети настелили ей в ящик ваты, клочков шерсти, положили обрезок старого матраца и кусок собачьей попоны. Укрывалась Ксения старым пальто, которое носила умершая жена Командира. Прокушенное ухо лихого воина зажило. За обедом он уписывал за обе щеки Ксеньину стряпню и нахваливал. После трапезы Ксения бросалась к тазам и ведрам, и Командир блаженно прищуривал осовелые глаза.
– Давай, давай... начищай... Завтра воскресенье... Завтра детей наряди получше... головы им расчеши...
Через несколько мгновений он спал в кресле, запрокинув голову, слегка подрагивая кольцами напомаженных усов.
Вот они, ведра. Колыхается в них тяжелая вода. Где ты, корабль? Тебя сожгли. Солдаты подожгли тебя прямо на берегу, обмазав смолой и обложив пучками сухого хвороста, набранного в соседнем овраге. Ты горел ровно и мощно. Ксения не видела, как горит корабль – она сидела, скорчившись, на дне душного мешка, и молилась об избавлении от сна и кошмара. Но сон не кончался, и кошмар не проходил. И давно уже, засыпая в ящике из-под картошки на чадной кухне, Ксения перестала полосовать себя по запястьям и по локтям остро наточенными кухонными ножами. Она не просыпалась, но и не жила. Где был тот мир, где она находилась, драя морским песком кастрюли и плошки, возя мокрой тряпкой, накрученной на швабру, по дощатым и каменным полам, она не знала. Любопытство не мучило ее. Когда она, забывшись, молилась по-русски, дети вздрагивали.
Отжать тряпку. Накрутить на щетку. Вода, смывай всю грязь, налипшую от сотворения мира. Завтра праздник, сказали дети. Праздник. Ее сын... Где ее сын?.. Она имела во чреве и кричала... от болей и мук рождения... И дочь у нее была; правда же, у нее была дочь?.. когда это было?.. на Востоке, в землях Китайских и Даурских, в иных странствиях, которым несть конца... Ты не помнишь, как ее звали?... окуни тряпку в ведро... отожми...Мария?... Елизавета?... Елена?... елеем помазали русую головку ее, перекрестили, из серебряной ложечки дали ей испить кагора и в теплую купель окунули, прежде чем... выжимай тряпку как следует, чтоб не капало... слезы не капали шибко, обливая солеными ручьями чужие каменные плиты...
Это было в другом мире. В мире ином. Она забыла. Она не хочет помнить.
Дети кубарем скатились с лестницы, крича:
– Ксения. Ксения!.. ты что, оглохла, колокольчик гремит, в дверь звонят, открой, открой скорей!..
Она, как была, с тряпкой в руке, шарахнулась к двери. Открывала дрожащими руками. На пороге стоял человек в капюшоне, по моде этой страны, заросший бородой до самых глаз. За руку он держал мальчика лет двенадцати.
Ксения безмолвно поклонилась. С тряпки капала вода. Язык чужбины она так и не изучила. Понимала, и ладно.
Человек с бородой ответно поклонился земным поклоном – в пол, коснувшись намытых камней тылом мозолистой ладони.
– Будь здорова, Ксения, – произнес он по-русски, и она дернулась всем телом. – Прими ходоков к тебе. По землям и по временам прошла весть о том, где ты. Мы уведем тебя обратно. Там, у нас, тяжело. Но там ты людям нужна. Им плохо без тебя, Ксения. Знай это. Напои, накорми нас с дороги. Умаялись мы. Иван! – крикнул. – Ученик мой любимый, – улыбнулся Ксении. – Развяжи узелок. Там у нас для тебя гостинец. Покажи, Иван!
Русоволосый, стриженный под горшок, мальчик с усердием развязал холщовый дорожный узелок, вынул оттуда горбушку ржаного, печеного леща, банку с сотовым медом. Ксения неотрывно глядела на яства. Мальчонка еще поковырялся в котомке, нахмурил брови и наконец извлек круглый медальон черного серебра, небольшой, в четверть ладони. Нажал ногтем на крышку – она откинулась, Ксения, дрожа, заглянула внутрь и увидела... перед глазами ее все поплыло, ведра, тазы, намоченные в щелочи тряпки, метлы... на крышке мерцал выкованный китайский иероглиф “ФУ”, означающий “СЧАСТЬЕ”... там, внутри, сидят две медные фигурки на кружке красного бархата, смотри на них, они приближаются, они становятся все больше, они наползают на тебя, ты узнаешь их, они оживают, вот они уже не медные, вот они из плоти и крови... у одной из фигур твое лицо, у другой...
............колени подкашиваются, падает, роняя ведро, валясь набок, в грязную воду, бородач подхватывает ее на руки, мальчик держит ее голову с мокрыми косами, дети визжат, время летит, летает вокруг них, жизнь летит.........
СТИХИРА КСЕНИИ О СЫНЕ ЕЯ И О ПЛОЩАДНЫХ СКОМОРОХАХ
...........я пытаюсь вразумить противоборствующего:
– Зачем ты стреляешь?! Пуля рикошетом ударит в тебя! В твоих детей! Внуков! Правнуков!
– Заткнись, сусальная тетка! – Бритый парень, с незажившими ранами на лбу под торчащим ежиком пшеничным волосам, злобно расстреливает меня глазами. – Это мы все в жизни уже слышали! Нам бы чего покруче! Поправдивее услыхать! Да нам ничего и слышать не надо! У нас нет ушей! Нет лиц! Нет глаз! У нас есть одна ненависть, тетка, к тем, кто сделал нас такими! Ведь не сами мы такими придумались! А нас сделал кто-то! Ну, еще напрягись, скажи, что нас сделал Бог!
– Вас сделал Бог, – тихо сказала я, и разрывы и выстрелы заглушили мои слова. – Бог и Сатану сделал тоже. Люцифер – Его созданье и Ангельский Его ученик. Но ученик возомнил себя Богом и Единственным. И Бог свергнул его с небес в преисподнюю.
– Бог!.. Преисподняя!.. Я наслушался этих сказок уже вот так!.. – орет парень и рвет на груди автоматный ремень.
Красные огни мечутся в черноте. Площадь, полна народу, ревет, надвигаются и опадают волны людского черного прибоя. Лупит сухой снег. Мертвая крупка лезет в рот, в ноздри, залетает в дула автоматов, тает на рукоятях револьверов. Я здесь. Я снова здесь. Зимняя Война дошла до нас?!
– Собаки!.. Собаки!.. Оратора на площади загрызли собаки!..
– Дикие собаки, они бегают стаями... они растерзают страшнее волков...
–...человека-волка видели?!.. он свободно ходит по Армагеддону, не скрываясь, с короной на голове...
– Бегите в убежище, скорей бегите!... сейчас начнут стрелять из Кремля... дальнобойными...
– Царя хотим!.. Царя хотим!... Царя...
– Дурак, твоего Царя убили, очень даже натурально, и все его большое гнездо, на штыки детей насаживали, Царице череп размозжили, а ты все его кличешь... если новый царь воссядет – думаешь, его так же не убьют?!.. ну ты и дурак...
– А комету видели?!.. Эх и страшная... С нее кровь и началась... Она над самой нашей крышей висит... Мать как увидела ее ночью, заплакала, махнула рукой и сказала: “Все, конец нам, ребята...”
Огни. Костры. Пожары. Горит мой родной Армагеддон. Почему родной?! Я здесь не родилась. Я сюда пришла издалека. Из сибирских снегов, с северного лютого моря. И попала в перестрелку. В кольцо разрушения. Я была на Зимней Войне. Я видывала виды. Что мне делать сейчас, когда Зимняя Война здесь?! Вокруг нас?! Внутри нас?! Метаться по вспыхивающей, стреляющей кострами и трассирующими пулями площади, кричать свои проповеди: “Не убий!.. Тебе же хуже будет!..” – или засучить рукава, взять в руки ведро с водой, бинт, марлю, таз, йод, спирт, ползать по полю сражения, подбирать раненых, перевязывать их, обмывать грязные рваные края ран, целовать в кровоточащую середину?!
Или, может бросить никому не нужное милосердие, ведь все равно все умрут, а просто ходить посреди сражающихся, бродить по полю брани, воздымать руку для благословения, шептать беззвучно: “Прости им... прости им, Господи...” Слоняться, спотыкаясь, по пепелищу, мерить ступнями безумное кострище, стоять над огнем с солдатами, пить с ними водку из горла – авось, угостят, и надо же, угощают ведь! – нежно трогать убитых за руки, гладить их по волосам, заглядывать в их лица. И только повторять, повторять обожженными губами: Живый в помощи Вышняго. Живый в помощи Вышняго. Живый...
– Тронутая, сними черный поясок с молитвой!.. дай мне... помираю...
– На. Это для тебя.
Мальчик, веснушки на носу, немного лет ему, может, десять, а может, двенадцать, а может, он малорослый да голодный и статью не вышел, умирает на снегу под моими ногами. Я повязываю ему поясок из черного сатина, на ленте монахини вышили когда-то золотом: “Живый в помощи...” Мальчишка слабо улыбается. Обирает пальцами у себя с груди невидимых ползучих тварей. Тлей, вшей... Сейчас, через две минуты, он умрет. И я не скажу ему: “Встань и иди”. Или скажу?!
Где сила моя, Господи, и где слава моя?! Не я ли живу в непрестанном напряжении и старании во имя Твое?!
– А как же... тетя... тебя без пояска-то... самое убьют?..
– Не бойся. Я опоясана. Только никто не видит этот пояс. Он невидимый, понял?..
– Ты колдунья или дура?.. – шепчет пацан, умирая, на его лбу выступает белый холодный пот, кругом стреляют и матерятся, я склоняюсь ниже и отираю со лба его росу смертную.
– Ни то и ни другое, сынок, – губы мои касаются его уха. – Я странница. Только хожу не там, где предписано, а там, где мне вздумается. Усни. Я с тобой.
Он содрогается и вытягивается струной. Я держу его, пока он отходит. Закрываю ему глаза. Крещу. Вокруг воют, стреляют, хватают застылую землю скрюченными пальцами, затыкают себе раны ватой и тряпьем, блюют, щелкают затворами, швыряют в костры портянки с убитых, присваивая сапоги. Я вскакиваю на ноги. Поднимаю руки над мальчонкой. Мышцы мои сводит судорогой ужаса и силы. Волосы мои, золотые и призрачные, встают дыбом. Их крутит ледяной ветер. Я распахиваю глаза широко. Очень широко. Так, чтобы видеть весь мир. Чтобы видеть добро и зло. Чтобы видеть Бога и Дьявола. Чтобы понимать их. Чтобы молиться с широко открытыми глазами, уставляя их в широкое небо.
А в небе тучи. Много туч. Косяки, стада туч, серых, черных, коричневых, белесых, дождевых, снеговых. Они задавят меня. Они неистово несутся над воющей толпой, над криками и песнями, над мольбами и ругательствами. И сквозь них Бог смотрит двумя глазами – Солнцем и Луной. И я разлепляю губы и говорю умершему мальчику: “Встань”.
– Встань, сын мой, в утробе моей взращенный сын мой, из чрева моего вышедший на свет Божий сын мой, встань и живи опять. Встань! Гляди! Иди! Живи! И да минует тебя чаша сия...
“Чаша не минует никого”, – услышала я из туч глухой насмешливый, низкий голос. Дикие собаки, рыскающие по Армагеддону, волокли в подворотню убитого, уцепившись зубами за шиворот. Я стояла над мертвым, вытянув руки. Косы мои взвихрял ветер вокруг моей сумасшедшей головы. Последним усилием я крикнула:
– Встань во имя Господа Бога нашего! Встань! Ты сын мой! Я люблю тебя! Ты будешь жить!
Дрогнули веки. Показалась светлая, безумная радужка. Мужик с автоматом наперевес пробежал рядом с нами, присел, наставил дуло в черную пасть раскрытого подъезда. Огонь прошил леденистый ветер. Мальчик открыл глаза. Водил взглядом из стороны в сторону. Понял. Осознал. Задрожал. Испугался. Заплакал.
– Тетя, укрой меня... укрой меня!.. Мама!..
Я подхватила его на руки, крепко прижала к себе и так несла, угловатое тельце подростка, кожа да кости, рассыпь веснушек под глазами, русая макушка в крови, так шла с ребенком на руках сквозь огонь и дым, босиком по пеплу, босиком по красному снегу, по черным углям, по белым песцам, и что-то тяжелое, я чувствовала это, болталось и волочилось у меня за спиной, но я не хотела оборачиваться, чтобы узнать, что это, я боялась обернуться, я шла и тащила на руках моего ребенка, моего сына, вот он, вот я нашла его, да что же это, Господи, Ты его мне дал, взял и отдал опять, велика милость Твоя; так шла я по пепелищу, по гулу и вою и смраду, и молилась, и смеялась, и целовала ожившее личико моего родного сына, да откуда же у тебя веснушки, спрашивала его я, а он бессильно смеялся мне в ответ и бормотал: это еще с весны осталась, на память о Солнце, и мой обгорелый мешок волочился за мной, свисали и тащились по снегу за мной лохмотья, и я обнимала сына плечами, руками, грудью, шеей, чтобы не дай Бог не убило бы опять его, моего золотого мальчика, и он вцеплялся в рубище на моей груди, и вжимал лицо свое в грудь мою, как во младенчестве, и я плакала от счастья и говорила ему на ухо: все молоко небес – твое и все молоко снегов – твое, а я твоя мама найденная, и ты мой найденный сынок; как же мне не любить тебя и не защитить тебя, если я сама тебя родила и сама воскресила?!..
– Мама, твой поясок на мне...
– А ты сам на мне, как поясок...
И шли так мы и шли, и тяжесть за плечами моими, за лопатками становилась все странней, все неимовернее, и наконец я решилась, изогнула шею и оглянулась: прямо за спиной моей, волочась по снегу и льду, висели крылья – огромные, в щедрый размах, небесные крылья, с коричневым, плотно сидящим друг к дружке пером, с пуховым подбоем, изрезанные, израненные, перепачканные мазутом, соляркой, бензином, слезами, грязью, солью, сукровицей, кровью; одно крыло было подбито, и свежая кровь из раны сочилась на снег, и я шла, оставляя за собой яркую алую полосу, похожую на красную молнию.
– Мама, если я снова умру, помолись за меня!..
– Я за тебя и так молюсь...
А сама искоса, голову развернув, гляжу на крылья: может, я брежу, да не есть ли вся жизнь человеческая один большой бред, одно великое, необъяснимое сумасшествие, насаженное на вертел острой и колкой звезды, не есть ли вся наша жизнь одно неистовой схождения с ума, горькое и сияющее, и вот идет Война, и вот я обнимаю потерянного и найденного сына, и вот я рожаю дочь, и вот она умирает и я не могу ее воскресить, и вот народ проходит за народом по снежному лицу земли, и вот люди смеются и плачут и все оказываются в одной общей вырытой для всех ямине, – Боже, Боже, только не оставляй меня в пожизненном бреду моем! Зачем крылья Ты мне дал! На что! За какие грехи! Я же их не снесу, Господи! Тяжесть такую ! Не сволоку! Ножом не откромсаю! Да вот еще беда – сдается мне, их вижу только я! Но не менее тяжелы они от этого! Невидимое еще страшнее нести! Боже! Возьми их у меня! Отними от меня! Или... если они уж навек есть на мне, крыла...то... возьми тогда меня на небо, милый! И я там буду счастлива. И там я буду летать на сужденных мне крылах, а не таскать их по земле – натужно и страдально, на потеху и посмех другим людям. Там, в небе...
– Мама, мамочка, – захрипел мальчик, – пить...
Я встала на колени, одной рукой неловко слепила грязный снежок и воткнула ему в губы и зубы.
-Ешь, родной, это наш снег... родимый...
Сын пососал снежок, порозовел и улыбнулся.
– Мама, там у меня рана... перевяжи...
Я стала искать глазами. Ничего не было под рукой. Я наклонилась и оторвала от мешковины, от своего подола холщовый клок. У сына рана в груди. Счастье, что сердце не задето. Пулю я вытащу. Я погрузила руку в рану. Родная кровь лилась, струилась по моим рукам. Он понял, пошарил в кармане, протянул мне мальчиший перочинный ножик. Я почистила лезвие снегом и резанула вдоль раны; пуля-дура вышла вместе с кровью, вылилась, как жемчужина из раковины. Я высасывала кровь, выплевывала ее. Заговаривала. Красное, горячее переставало течь. Кругами, кольцами ложилась мешковина. Поодаль валялся ящик из-под водки, перевитый суровой, сходной с канатом веревкой. Ею я накрепко завязала раненую грудь моего волчонка, моего галчонка, царевича моего.
Пока я спасала его во имя Божье, он улыбался и стонал.
– Не бойся, мама, я сильный...
– Да, чудо мое. Весь в меня.
Я боялась сказать ему, в кого еще. Об этом он сам узнает когда-то. А может, и не узнает. Все счастье. И знанье – счастье, и незнанье – счастье.
– Ты можешь идти?..
– Попробую...
Он прошел три шага, поддерживаемый мной, и упал. Я опять схватила его на руки.
– Я не помню как назвала тебя. Сколько жизней прошло. Сколько раз я умирала. Как тебя люди зовут?.
– А никак,– сын прижимался головой к моей груди, светлый глаз его из-под ресниц блестел, как у петуха.– Все по-разному кликали. Я уж и сам позабыл, как и кто. Корочкой... Хвостом... Звездарем... А то еще один мужик чудно звал: Белый Клык!...
– Хочешь царское имя?.. – голос мой зашелся в подреберном рыданье. – Николай?.. Петр?.. Алексей?..
– Николай – здорово, выдохнул он. – Торжественно. А не забросают меня снежками... не расстреляют... за такое имя?..
– Нет, Носи. Мы же русские люди. А крещеный ты?.. нет.. я тебя тогда – не успела...
– А что значит крещеный, мама?..
Я все поняла. Крылья тащились за иной, приминали снег, надавливали мне на лопатки. Подбитое крыло болело. Скорее. Я это сделаю сама. Нет. Я сама не могу. Нужен священник. Дура! Где в огненной, кровавой каше ты священника найдешь! Где-то они тут пребывают. Прячутся. Зимняя Война никакие храмы не пощадит. Я построю храм в честь мужа моего, Юхана. Потом. Если выживу на этот раз. А почему бы мне не выжить, когда сына я нашла?!
Мы вышли на Красную площадь. Она вся была красна от красного снега, от снега в крови. По ободу площади на неуклюжих колесах стояли пулеметы. Их было не счесть. Сын зажмурился. Он уже боялся умереть, потому что у него была я.
– Николинька, не бойся их... Сейчас я тебя покрещу... потерпи...
И очень, очень далеко, на другом конце площади, серо-белом мареве легкокрылой метели, я увидела старика; у ног большой тени болталась маленькая., и я поняла, что это старик и мальчик, мальчик и старик. Зачем они вышли на обреченную площадь, простые люди? Сражаться? Но в руках у них не было оружия. Наблюдать? Не летописец ли был старик? И за что мальчонка с ним?
Я побежала к нему через простреливаемую насквозь площадь, спотыкаясь, увязая в снегу. Видит ли он крылья мои так, как вижу их я ?
Вот он ближе, ближе, ближе. Добежав, я увидела, что белую метельную бороденку его треплет ветер. Он был без шапки, в старом полушубке. Снег таял у него на лысине. Мальчонка, стоящий рядом с ним и цепко держащий его за руку, был ровесник моему сыну.
– Здравствуй, Ангелица, – с достоинством проговорил старик и наклонил седую голову, – вот и явилась ты ко мне, вот и сподобился я твоего явления. Сколько веков ждал...
Мальчонка толкнул его валенком в валенок, сверкнул глазами. Мой сын смотрел с моих рук на старика, на башни, на звезды, на вихренье снега, на мертвые тела на забеленной мостовой.
– Я не Ангелица!.. я Ксения...
– Нет, Ангелица, – упрямо повторил старик и вздернул кверху белую бороду. – Настали последние, судные времена. Ты пришла судить, и я пришел; и вот мы встретились. Сретенье наше произошло. Дождался.
Мороз зашелестел у меня по коже.
ОН ВИДЕЛ МОИ КРЫЛЬЯ!
– Я не судить явилась! А любить!..
– Тот, кто любит, судит страшнее всего, – жестко произнес старик и стряхнул снег с затылка. – Идем! Я тебе и красного вина дам, и крыло перевяжу, и сыну твоему рану бальзамом полью, и картины мира покажу. Ты все поймешь, Это видит только один человек в мире и только однажды. И человек этот – ты. Но ты не человек. Ты Ангелица. Ты должна видеть все. Мужайся!
Старик вынул из-за пазухи пузырек с бальзамом, развязал мои завязки на груди Николая и обильно полил рану пахучей темной жидкостью; перевязав ребра вновь, он принялся за мое крыло – повыщипал перья вокруг раны, зубами извлек пулю, залил бальзамом, затолкал в пуховую подмышку желтую вату, выдернутую из недр полушубка; затем он выпростал из необъятного мохнатого кармана бутылку и приблизил сначала к губам раненого ребенка, после к моим, и мы оба, мать и сын ощутили на языке и в глотке сладкое, горячее, горючее, плывущее, зовущее, счастливое... глотали, вбирали, жадно пили – еще и еще... Старик оторвал бутыль от моего рта сурово бросил:
– Будет. Хорошего помаленьку. Не делай лечьбу ядом. Не сломай гибкий прут, а лишь перегни. Есть искусство жить. Жить ты не умеешь, Ангелица. Да и не нужно тебе этого умения. Помнишь ли ты, откуда ты?..
Я закрыла глаза и стала вспоминать.
– Я упала с небес, старик. Я упала с небес. Там было прекрасно жить. Но Господь разгневался на меня, за то, что неверно, мало и плохо я служила в небе Ему. Я бежала по тучам, наступила в дыру, в проем пустоты, меня завертел сильный ветер, и я упала. Падала я долго. Не помню, сколько...жизней. Упала! Ночь. Площадь. Снег. Война. И мой сын лежит, раненый, и умирает. Я воскресила его. Накормила снегом. Напоила снегом. Снегом умыла. И мы пошли искать. Тебя. Тебя, старик. Показывай свои картины. Я не забоюсь ничего. Я много раз умирала, старик. А это что за мальчишка рядом с тобой?.. Почему он все время молчит?.. Он в братья моему сыну годится...
Старик улыбнулся, и я увидела, что во рту у него всего два зуба; улыбнулся и мальчонка, и зубов во рту у него было тоже два, и они светились, горели радостно и грозно, выражая веселье– трын-трава, наперекор всему, эх, пляши! Клубком катайся! Колесом! Прыгай скоморохом!
– А скоморохи мы, – сказал старик дурашливо и припрыгнул. Прыгнул и мальчонка, и шапка свалилась с его головы в снег. – Мы все показать можем. Бери в грудь воздуху! Сейчас что начнется!
Тьма, обнимающая Красную площадь, внезапно стала вспыхивать сначала туманно-перламутровыми, серебристыми бликами, потом все чаще, все страшнее – ярко-розовым, густо-оранжевым, ослепительно-золотым, алым, малиновым, багровым. Среди вспышек красного гуляли изумрудные и синие сполохи. Казалось – по всей площади, во всю ширину, полощутся красные флаги. И в этом безумии красного цвета, в разудалом его танце на площадной снег ниоткуда повалили скоморохи. Ноги, руки, спины, щиколотки, мохнатые треухи, бубенчики на колпаках, нашитые на кафтаны мочала, бубновые и червонные тузы, наклеенные на грубую кожу курток, щеки, размалеванные румянами, павлиньи перья за пазухой, живые петухи, вцепившиеся когтями в плечи и затылки – все шло колесом, гудело на дудках и сопелках, сверкало босыми пятками и сафьяном сапог, металось в сумасшедшей пляске, вертелось веретеном, подпрыгивало до небес, лизало снег то лисьим, то кометным хвостом. Это были настоящие скоморохи, и я с сыном на руках глядела, не отрываясь.
Кувыркались! Ходили на руках, задиравши ноги к звездам! Пойди врастопырку, враскоряку, а я ногу задеру да пяткой в небе дырку пробью– еще для одной звезды! Мы звезд тебе сколько хошь нарожаем! Догоним и еще добавим! Летит ракша, кряхтит квакша, а на пятках у тебя, кричали они мне, Ксения, выжжено по кресту, а ты сама об этом не знаешь, а и прикинули тебя жареной уткой ко посту!
У меня мелькало в глазах. Сын с моих рук глядел на вихрение скоморошьих тел как зачарованный. Один скоморох, молоденький, в островерхой красной атласной шапке, подкатился ко мне перекати -полем, растянулся на снегу у моих ног, с размаху сев на тощий зад, и, обратив ко мне свое, похожее на кошачье, лицо, заблажил:
– Швырк, дзиньк, сверк, смерк, брямк, дряньк... дрянь времечко наше, а ты свари его заместо каши! А ты-то ведь баба, и ручонки твои слабы: не удержишь черпак да по головушке бряк! А слева – красный флаг, справа – Андреевский флаг, а что у тебя на заду?.. так по жизни со срамом и иду!.. Эх, эх, баба, лезвие у тебя под пяткой – а ты толечко прикидываешься святой: глянь, у тебя пробиты гвоздями ступни, и текут из них на снег красные огни: ух, глаза разбегаются!.. брусника, малина, рябина, бузина, облепиха... экое лихо!.. вот, вот они, собирай, в рот пихай, в кулаках, дави, глотай...
Он сунулся мне под ноги. Он жадно собирал под моими ногами рассыпи красных ягод, они катились неизвестно откуда. Вокруг скоморохи в колпаках с бубенцами валялись и катались в снегу, со свистом и гиканьем тузили друг друга, бузили в сугробах. Два старых скомороха – один рыжебородый, другой с лысой и желтой, похожей на лимон, головой – обнявшись и приплясывая, распевали срамные песни. Скоморох-кот давил в пальцах ягоды, разбрасывал их по снегу, ел, смеясь, нагло блестя белками веселых сумасшедших глаз. Я с ужасом глядела, как снег пятнается алым, кровавится. Кот шевельнул усами, вскинул ко мне морду и осклабился.
– Твоя кровушка, бабонька-зазнобушка!.. Твоя... А толку что, измучили тебя или распяли – все равно другие спят на пуховом одеяле!.. А ты в подворотне как жила, так и померла... и старуха принесла тебе в подарок уши от мертвого осла... и свечку в церкви за тебя не сожгла... Спи-усни... обними – не обмани... Пляши, скоморохи, – остатние дни!..
Он вскочил, весь облепленный снегом, и сунул свои усы ко мне в губы. Целовался он яростно и неодолимо. Я не могла оторвать его от себя. Мальчик меж нами, зажатый нашими телами, заверещал, заплакал. Услышав детский писк, скоморох выпустил меня из объятий, сделал мне нос, показал язык, высунув его аж до ключиц, перевернулся колесом – да так, колесом, кругом, вздергивая в небо ноги, и укатился внутрь пляшущей и прыгающей скоморошьей толпы.
А они все плясали, размахнувшись одним безумным, сшитым из клочков и лоскутов людских жизней, пестрым флагом на всю широкую площадь – и дядьки-радушники в кровавых сафьянах, и пацаны, окутанные рыболовными сетями и увешанные, для смеху, рыболовецкими блеснами: вот она, наживка для тебя, сорога и стерлядь, для тебя, огромный колючий осетр, всепожирающее Время! Подбежал другой, с морщинами на лбу, с исцарапанным лицом, с павлиньим пером в зубах, с червонным сердцем на грязной спине. Захохотал, заплясал вокруг меня.
– Ах ты, Ксенька, Ксенька, кровавая жменька!.. – затряс кудлатой собачьей головой. – Мешай саламату в чугунном чану – а народ не признает лишь тебя одну!.. Все равно народ тебя одну заплюет, хоть он в тебя как в зеркало глядится, народ! Я слюну-то серебряную с усов ложкой обтер... А ты как всходила, так и взойдешь на костер! А костер-то наш жгут с утра до вечера и с вечера до утра: это, вишь, у них, у царей, такая, знать, игра! Не отвертишься от огня, хоть в прорубь стерлядкой сигай!.. Из синей печи неба дернут тебя, как зимний каравай... А мне – от тебя – кусочек – отрежут! Оттяпают – возьми, дурак, на!.. – вот, скоморох, те хрюшка, с кольцом в носу жена, вот, скоморох, те подушка – для опосля гулянки – сна, вот, скоморох, мирушка, а вот те и война!.. Ты мыслила – мы да в миру живем?!.. А мы лишь водкой бренчим в граненом стакане Божием... Гнись-ломись, поклониться мне утрудись, – в меня, скомороха, Ксенька, как в зеркало, поглядись! Себя ж увидишь! Забрюхатеешь, неровен час, ты, дура площадная, от всех площадных нас!...
Он перекувыркнулся на снегу передо мной раз, другой, третий; он катался под моими ногами на черном льду, дико смеясь, страшно скалясь, зубы его, как старая расческа, чернели пустыми дырьями. Налетели из-за угла его дружки, завели хоровод вокруг меня и сына, взмахивали сцепленными руками, кричали: “Наша царица! Ксенька, господенька, царица наша, жарена пельменька!..” Они исчезли, как провалились. На смену им выскользнули из тьмы другие скоморохи, побогаче. Эти были разодеты роскошно. Закутаны в красные, с золотыми кистями, знамена; в венецианский, иссиня-зеленый, как бок зимородка, бархат. Инородцы?! В русскую речь вплетались кабошоны неведомых словец. За поясами, за голенищами у них торчали ножи. Непростые это были скоморохи. Должно быть, это были не скоморохи-голь, а скоморохи-владыки – так победно, повелительно они глядели поверх бешенствующей поземки, поверх людских голов, сощурясь. Они кричали:
– Ледолом!... Ледолом!.. Каждый век мир идет на слом!.. Век кончается – морозной нитью истончается... А вы, люди, – звери!.. Глупые тетери!.. Мы вам головы дурили-дурили!.. Ладаном да травкою вас обкурили!.. Чем мы вас только ни кормили – вон, морды у вас, рыла и в дерьме, и в мыле!.. А вы, лисенята, из корыта багрец-баланду – пей! Пей! Лакай!.. Рудую романею из шей на снег – лей!.. Взалкай!... Красное вино хлещет, блея, пузырясь, – не успеешь подняться, а тебя опять харей – в грязь!.. Ударят – хрясь!.. Рыба-язь!.. Хайрюза плывут, светясь!.. Мечут красную икру... Глаза твои, Ксенька, – бирюза на ветру! Стоишь ты и думаешь: вот завтра помру! Вот на третий день меня скоморохи воскресят!.. А у них-то шальные зенки, как у зайцев, косят... А мы не люди – ножи! Мы лезвия! Пляшем-режем-рвем шелк гробов, кружева свадеб, бязь родов, гимнастерки войн, бархат знамен, – кто из нас острее, тот и силен! А мы ломаки, гаеры, шуты, а ты, гудошник, в дуду дуй, а сопельщика убьют – он смельчак, а не холуй! А волынщика пришьют к дубу во снежном поле, ему и каюк: звезды с неба спрыгнут, станут гвоздями, станут рыбами, вплывут в красные реки рук!.. Все красно на свете – и гусли гусляра, и вместо глаз дыра! И вместо шеи красный пень... че глядишь-то исподлобья, Ксенья, а Ксень?..
Один из толпы подскочил ко мне, выдернул из-за голенища нож, завертел его вызывающе перед моими глазами.
– Вот, вот, – гляди, баба!.. Пусть я преступник, пусть меня казнят... шалишь! Из сороги – теши ты ввек, как ни кряхти, не закоптишь!.. И знамя твое – красная рыба!.. Бьется над тобой в дегте тьмы: вы зашли в мереду косяками, а вас ловим и тянем на берег, добычу, – мы! Напрягай плечи, мышцы, руки-ноги, лбы – крепко сплетена старая сеть, не встанешь на дыбы!.. Эй, пляши! Пляши!.. Жизнь свою – продавай за гроши...
Еще раз махнул ножом у моего лица. Мальчик отшатнулся. Вжал голову в плечи. Я прижала его к себе.
Седой старик и мальчонка в валенках, усмехаясь, глядели вместе со мной на скоморошью пляску.
– Старик, что это?.. – беззвучно, одними губами, спросила я.
А выстрелы вокруг гремели, пули поливали площадь, и скоморохи падали один за другим, оседая на снег, утыкаясь лицами в сугробы, застывая в непотребных, неуклюжих вывертах рук-ног-тел-шей – бормотал, затихая, рядом со мной, у моего уха, у взвивающейся на ветру косы голос старика:
–...пирогами, кругами, петлями, буераками, бараками, хищными собаками, погаными пытками, пьяными свитками, вашими богатыми выручками, вашими заплатами-дырочками, вашими поддельными мощами, вашими учеными помощами, кишмишами, мышами, копчеными лещами, вашими – на выход!.. – с вещами... – сукровью меж мехами, горячими цехами, тяжелыми цепями, цыплячьими когтями, вашими – и нашими – общими – смертями – сыты – по горло! Биты – по грудь!
Скомороший клубок скатался туго, замер, заюлил волчком. Поднялся сильный ветер. Площадь под ногами заходила ходуном.
– Укатывайте!.. Уматывайте!.. – закричал старик. – Она нагляделась вдоволь!.. На весь ее век хватит! Нагляделась, как вы и пытали, и били, и из людей веревки свивали, и вздернутому на дыбе пить уксус давали... всего навидалась! Накушалась...
Последний скоморох с площади не успел убежать. Ветер свалил его с ног. Пуля достала. Он упал, не добежав до большого сугроба, перед дотлевающим костром. Упал, оскалив зубы, крепко сцепленные подковой, счастливым серебром: ни молотом ударить, ни серпом разбить, ни в холодный лик кирпичом загвоздить: из-под век на снег вместо слез текла кровь. А может, это был сок брусники. Калины. Рябины, схваченной морозом.
Ангел появился за его плечом. Подмигнул мне, как сообщнице. Убитый скоморох привскочил, протер глаза кулаком. Ягоды посыпались из-под кулака, запрыгали на снег. Опять упал. Затих. Вожжи поземки подхватили его, поволокли по снегу, как в санях, в розвальнях.
Он исчез за поворотом. Выбежали люди в черных шинелях, застреляли ему вслед – с колена и навскидку. Поздно. Гудошная музыка, писки, визги и крики растаяли в ночи, как не бывали.
– Старик... – я прошептала. – При чем тут я?.. Они мое имя знают, его поют, им меня называют... Кто я?.. И что я?.. И что человек на белом свете?.. Если я когда-нибудь уйду совсем – мир будет жить без меня, старик, или тоже умрет?!..
– Твой сын будет жить, – жестко ответил старик мне. – Много хочешь знать, Ксения. Худо тебе будет от этого. Многого знания не хоти. Многое знание убьет тебя. Видела плясунов? Они – дураки. Они думали, что весельем да нахальством завладеют миром. Не владей ничем! Не знай ничего! Дальше гляди. Крыло-то... не болит?..
Боль в подбитом крыле исчезла. Я благодарно взглянула на старика. Мальчонка в валенках взял меня за косы, подергал: “Настоящие”.
– Смотри дальше, кто... там, за углом... где метель трясет белый уголь с лопаты... рысью... корчится в судорогах... Тот, кого так любит народ... А что такое любовь народа, Ксения, а?.. Народ кого возненавидит, того возлюбит сильнее всего, крепче всего... Видишь... видишь... ты его не знала никогда... а я его еще помню... помню...
На углу, где перед каменной громадой царского дома стоял черный железный танк, наводя пушку то на строения, то на бегущих взад-вперед людей, на снегу лежал человек; рана – от дворницого лома?.. от посоха владыки?.. от древнего копья?.. от солдатского штыка?.. – зияла во лбу его, как красная звезда. Он лежал совсем рядом с нами. Его можно было спасти.
– Заверните в рубашку буйного, – сказала я, задыхаясь, – дайте вору гостинец от ворья...
– Почему ты хочешь обязательно всех спасти, Ксения? – грозно спросил старик. – Предоставь жизням и смертям свое. Не отнимай у них кровное. Ты никогда не думала о том, что ты, спасая, может быть, убиваешь? Что ты отнимаешь у человека право на смерть, подаренную ему Богом?..
Я молчала.
Сын схватил меня руками за шею.
– Гляди, гляди, – шептал старик, плюя в дыру между зубов, – гляди, гляди... Они идут... Они идут...
Они идут. Они идут. Они идут и поют. Песня глухая. Тугая. Песня железом и чугуном застревает в их луженых глотках. Поют. Мрачно. Слаженно. И потом и вразброд и вперекос. Песню поют угрюмую, как труд. Подневольную. Тяжкую. О том, что не ты есть и я не есмь. А есть кто? Тот, кого так любит народ. Он носит на лбу, на затылке корону. Золотую?! Нет, цвета ви... – ты вишню любишь, старик?... и я люблю... – и по щекам у него из-под венца течет вишневый сок; а ходит он среди народа в дохе, подбитой мехом на крови, раскроенной из только что снятой шкуры; они об этом поют. И Тот идет, как надо, впереди поющих. Впереди народа. Пой, народ! Пой о том, что женщина родит, а муж ее сойдет с ума и себя оскопит в безумье. Несчастны в грядущие времена родящие и кормящие сосцами своими. Смотри, Тот! Вон он, Тот, кто... Он висит в черноте неба под поющими. Он озарен снизу красными сполохами. Он глядит сверху вниз на бойню. Почему люди поделили Время на века, часы и дни? Откуда они знают, люди, когда начало века, когда его конец? По модам? Кружевным шмоткам, мантилькам, меховинам, клешам, брючинам?.. Пацан в валенках. Сейчас начало или конец века?! Конец. Ну да. Купи в церкви десяток свеч, воткни их в снег и зажги. Помяни конец века, парень.
Конец. Они поют?! Это конец, какие тут песни?! Они еще живут? Где ты видишь жизни... Жизням конец.
– Мама!.. Мама!.. Кто это!.. В метели, там!..
Я, дрожа, всмотрелась. В пурге, в мареве маячили двое – он в кителе, она в кружевной мантилье, белая шея, унизанная жемчугами, нежно светилась в призрачном снежном колыхании. Ты видишь, Царь, и ты, Царская жена, как глупо устроен мир. Вы любили свой народ, ну и что? Чья кровь запеклась на перстах Того?! Царь, ты в шубе... закрой Цесаревича полой!.. запрячь!.. ведь ненароком – хлесь! – и выстрел!.. Пули, как пчелы... Закусают... И бурана пчелиный рой, белый, крутящийся, слетает на черствый хлеб земли, на круглую краюху площади, что даждь нам днесь, и я ловлю белые крохи хлеба Божьего ртом. И мой сын тоже. Мы еще живы. Пока.
– Это... наши Царь и Царица, сынок... Их... давно уже нет на свете...
– Они с неба, что ли, спустились?..
– Я ведь тоже с неба упала...
Идущие и поющие шли прямо на Царя. Царица всплеснула белыми руками, охваченными браслетами горного хрусталя, и закричала. Ее слабый крик пошел кругами по метели. Поющие окружили Царя и Царицу кольцом.
– Это тоже скоморохи, мама?..
– Да, сынок, и они тоже поют и пляшут... и плачут... ибо не ведают, что творят...
Кольцо поющих сомкнулось вокруг Царской четы. Мужчина и мальчик не кричали. Кричала только женщина, отчаянно, долго и надрывно, в последнем безумном и яростном порыве – жить, уберечь, защитить. Потом и ее крики затихли.
Вот он, мой родной народ. Вот он – старик мой; идет подворотнями, крик держит в глотке, лакает воду из котла, держит хлеб и монету за щекой. Он идет, наползаем на меня – чернью, медью, лезвием, вервием. Он режет меня живьем на размах знамен. Он рубит меня топором на испод гробов... Он вздымает меня вверх факелом, шматком огня; эй, ты, любовь, а ну, свети! Гори, факел бешеный! Освещай наш путь! Нет пути?! Озаряй бездорожье! Выгори дотла! Дотлей! Умри! Умрешь – летай Ангелом в небесах! А народ, он будет жить. Середь поста – жрать. Уминать сало да лить в горло водку супротив креста на кладбище. Погибать в диких войнах. Греть сковородку над костром зимой, жаря печень врага своего, проливая слезы над неизбежным. Райских деток пеленать в неземном Аду.
– Боже, мы в Аду живем...
– А ты только теперь догадалась? – Не голос – рык и гром сотрясли небесную твердь, белое поле площади. – Твое схождение с ума – есть Сошествие во Ад. Ты идешь по Аду, Ксения. Трудно выжить в Аду. Да и надо ли там жить? Ты и не живешь там. Тебе твое житие снится. Лишь другие люди тебе не снятся – те, кого ты жалеешь и любишь. Если тебе удастся сохранить в себе любовь даже в Аду, то я...
Он закашлялся, как чахоточный, согнулся в три погибели; слезы выступили на его глазах, стекали по вискам и скулам, их сушил ветер. Пуля просвистела рядом с его щекой. Старик отмахнулся от нее, как от мухи. Мальчонка обнял его, уткнулся лицом ему в полушубок.
–...буду знать, что время сомкнулось кольцом – вот таким, как на твоем пальце, – он цапнул ее за руку, где горело железное кольцо генерала, – и что близок Последний Приговор. Наступили особые дни, Ксения. Держи мальца крепче. Гляди!
Из тьмы площади шли люди.
Они шли прямо на меня.
Прямо на меня, молча, без слов и без слез, шел, надвигался мой народ.
Они шли медленно и неумолимо, и я хорошо видела их – в шинелях серого сукна, с еще не отодранными в схватках погонами, с еще не отрезанными в мародерстве пуговицами, и в онучах и в лаптях, в складчатых поддевках, и в военных формах №1 и № 2 – зимних и летних; шли зрячие и без глаз – выжгло глаза на фронте, выкололи глаза в ночной подворотне, вытекли глаза горючими слезами!.. – а на сотни газовых атак был всего один приказ, и все командиры страшно орали: “ Ни шагу назад!” – и они не делали ни шагу назад, а земля сама откатывалась назад, подминая их под себя, накатываясь на них тяжелым погребальным телом; и крестьяне с вилами в руках – эх, ты красный мой петух, эх и запущу я тебя – раскинешь крылья!..– на сто спаленных деревень ты один, горящий красно и дико, золотой Дух Святой!..– на сто растоптанных усадеб – один мальчонка, в драном нищем пальтишке, хлещет дождь, а он держит в голых ручонках икону Спаса, в окладе древней скани, с изумрудами-опалами-рубинами, глядит в плачущие глаза Исуса, сам плачет, а ливень хлещет, и он прячет икону к сердцу, ховает за пазуху, и так идет с ней по раскисшей кисельной черноземной дороге, по жизни, идет прямо ко мне, прямо на меня; и матросы в тельниках и бушлатах, с железными зубами, с флягами, в которых булькает спирт– надо же тяпнуть перед боем, а то будет страшно, так страшно, что забоишься, упадешь лицом на палубу и заплачешь, а тут тебе спирту в железной кружке дадут, ты пей все, пей до дна, и зубы о кружку стучат, и кончен бал, и кончен бой времени, и стянут льдом до дна Ледовитый океан, только звон до полюса идет, и торпедирован корабль, на коем Бог – боцман, а штурман – нежный Серафим с огнями вместо ног, и вот он тоже на меня идет, прямо на меня, огненными ногами ступает; идет пацанва, что ела на задворках кошек и крыс, варя их в столовских котлах и консервных банках, и девочки с ними идут, что на ночных вокзалах продавали за мятую бумажку свою маленькую жизнь дешевей самого дешевого вина; они шли рядом – лысый губастый беспризорник, знавший ходы-выходы-переходы, бьющий ребром ладони в лицо – и слепнет человек от удара, а в это время хватай у него деньги из кармана и быстро убегай!.. так, чтобы пятки сверкали, как у зайца, травимого собаками!.. – и сука-вор с волчьей пастью и заячьей губой, и пахан, продажный мешок, куль с мякиной, тухлая колбаса, с винтовкой-десять-пуль; и мать, чьи ребра внутрь вбились голодным молотом, чей сын остался лишь молитвою под бормочущим бредово языком, – и, чтобы не умереть, она вошла внутрь толпы и вместе с ней идет и глядит мне в лицо, и горящие, вошедшие глубоко внутрь черного лица глаза ее говорят мне: ты ведь тоже мать, Ксения, так зачем ты не воскресила родного мальчика моего?!.. – они надвигались на меня– все, кто нищ, и гол, и бос, кто на мороз выскакивал без рубахи, мотая пьяной головой, кто катился мертвым под откос, светя в январскую ночь светлыми ледяными глазами, кто в офицерском золотье, в витушках эполет и аксельбантов падал на зеленый лед царских рек под залпами: “Пли!.. В изменника Родины – пли!..” – неловко валился, как мешок с картошкой, угрюмо, тяжело, кровяня снег, матерясь сквозь зубы, останавливая на высоком синем небе последний твердый взгляд; бок о бок шли – несли тяжелый, пачканный машинным маслом инструмент путейщики, обходчики, рабочие разъездов и станций, гладившие паровозы по морде, обнимавшие красные колеса локомотива, как женскую грудь, – и бабы, бабы, бабы, с грудями и животами вперед, шли как корабли, неся в кромешных трюмах белых брюх немых детей – навзрыд вой, белуга, тряси кудрявой головой, бейся, слезами улейся, реви за трех, живи за двух, а умирай только за себя, бей в землю лбом, а в небо горбом – может, поднимут тебя по лестнице, за все твои страдания, светлые Ангелы!.. – в мерлушках и ушанках, в хромовых сапогах, кирзачах и болотниках, в намордниках от комаров и пчел, в фуфайках и ватниках на мосластых плечищах, в кителях, отстиранных добела, в тужурках и кожанках, в папахах набекрень и прокуренных мятых кепках – за валом вал, за рядом ряд, они все шли, шли на меня, наступали, сметая с лица земли все мои жалкие бирюльки и игрушки, ужимки и прыжки, все мои сны, пляски, танцы, песни, излечения и воскрешения людей, все мои безумные пророчества и вещие ведения; и я узрела мой народ – я, лишь сумасшедшая Ксения, лишь плясунья и молельница, лишь отверженная от стана людей уродина, раскрыв для крика рот, и я хотела крикнуть: "Остановитесь!" – но крик смерзся в глотке, крика было не слыхать, хоть я и кричала, разевая рот под крупными, на морозе, звездами, и мой народ шел и шел на меня, вот надвинулся стеной, вот я задохнулась в его тисках – и меня смела волна, меня вогнала огромна горячая рука, как нож, по рукоять в белое тело заметеленной земли, меня подожгла восковая свеча в руке скорбно идущей в толпе девочки в черном платке и сожгла меня до кости; и толпа подмяла меня под себя, пройдясь по моим раскинутым на снегу крылами, и перья хрустнули в крови, и храм, мерзнущий на площади, вздрогнул всем белым телом, и трещина молнией прошла вдоль по заиндевелому камню; мне в распластанную спину огнем впечаталась голая ступня, ребра сломались и проросли через снег далеко в землю, я завыла, как собака, а кровь моя лилась вином – подходи, кто хочешь, налетай, пей, лакай, до утра гуляй!.. – и стала кость от кости я, и стала плоть от плоти народа моего, и стала я в голодуху голодному – теплый ломоть, и я поняла внезапно и навсегда, кто я такая, и кто такие мы, и кто идет вслед за нами из тьмы, стреляющей огнями, сводящей с ума.
И, когда прошел мой народ по площади, вбив меня в землю и снег, к моему изувеченному крылатому телу подошел старик и погладил меня между крыльев, там, где горел огненный след мужицкой ступни.
– Ну, как ты?..– бормотнул. – Еще жива?..
Мой сын сидел на снегу около моей головы, плакал, держал в руках мои тяжелые волосы, утирал ими щеки.
– Мамочка!.. Не умирай!.. Я же тебя нашел... я же тебя... а этот противный старик... он... колдун... я его... убью...
Он плакал и плакал беспомощно и жалко.
– Не убивай его, сынок... он показал нам нас самих... Посмотри на него... узнай его... ведь это...
Мальчонка в валенках сдвинул ушанку со лба; мелкая алмазная крупка густо сыпалась с небес, усеивала шапку алмазами богаче и ценнее Мономаховых. Фонарь гудел казанкой, качался на ветру. Мальчик засунул палец в рот, облизнул его и вынул, держа вверх, стоймя – определял, откуда дует ветер.
– Северный ветер, дед, – сказал он мрачно. – А эта баба уже не жилец? Ты бросишь ее здесь? Собаки ей крылья отъедят. И куда ейного пацана девать, он же раненый?
Он сел на корточки рядом с моим плачущим сыном, повернул замерзшей рукой мою голову на снегу так, чтобы я могла его видеть.
– Вот что я тебе скажу, тетя. – Он сплюнул в сторону и усмехнулся одним углом рта. – Жизнь на самом деле очень проста. Ничему не верь, ничего не бойся и ни о чем не проси. А все люди – караси.
– Какая у тебя шапка... красивая, – с натугой сказала я, выхаркивая слова вместе кровью из раздавленных легких. – Ты Царь. Ты не карась. Ты маленький Царь этой земли. А я твоя крестная. А это будет твой брат. Люби его. Никогда не убивай его. Даже если очень ему позавидуешь. Даже если очень пожелаешь. Я венчаю тебя на Царство снегом. Похорони меня вместе со своим братом... вот здесь. Здесь. На Лобном месте. Где лилось много крови. Где еще она прольется. Расковыряй ломом мостовую, закопай в мерзлоту. Я тут хочу спать. Спокойно... буду слышать звон колоколов, гомон людской. Запомни, как ты в детстве видел Ангелицу и похоронил ее. Дети... Помолитесь обо мне, дети!.. Я не успела побыть вам... матерью...
Метель взвыла. Старик, с подъятыми белыми космами, перекрестился: из треснувшего пополам храма донесся отчаянный колокольный вскрик, храм подломился, осел и рухнул на землю, взвив пыль и снег, погребая под грудами камня людей, зверей, оружие.
Полушубок на груди старика распахнулся. Блеснул крест. Я негнущейся рукой зашарила на груди свой, нательный. Вот она, родная бирюза, в кулаке. Синяя жизнь. Синее небо. Увижу ли когда-нибудь. В жизнях иных.
– Погоди хоронить себя, – строго вышептал старик. – Ты еще поживешь. Тебя еще мир от себя не отпустит.
Он перекрестил меня, раскиданную по снегу – куда крыло, куда рука, куда нога. Летели золотые листья волос. Дети ловили их на ветру, играли ими, слезы высыхали на их замурзанных личиках. Выстрелы гремели все реже. Костры на площади гасли. Ночь кончалась. Ночь умирала. Розовый, как румянец царевны, рассвет заливал щеки неба, и звезды летели наземь, как снятые серьги.
Сознание покинуло меня. Я растворялась во всем сущем – в кремлевских башнях, в наметенных сугробах, в кругах пепла, в мерцающих предо мной детских лицах. Последним усилием я пролепетала:
– Старик, выкуй железную коробочку... или медальон... вылей из меди фигурки – мою и свою... сыну моему дай носить... я – мать... ты – отец... я же тебя узнала, хоть ты и отрастил бороду... ты – Исса... ты превращал воду в вино и вино – в кровь... там, на пиршестве вурдалаков... ты давал мне мыть ноги твои там, на пирушке нищих... я мыслю даже так... слушай!.. я не в бреду... я все понимаю ясно, осознаю... что Юхан, мой Юхан – это тоже был ты... ты просто спрятался в него... чтобы я не догадалась... чтобы спаслась... ты – его отец... спаси его от всяких Курбанов... от Горбунов... не дай его распять... воспитай его... благослови его... а я, твоя жена, умираю сейчас... но только сейчас... на время... переживи это время, Исса... переживи... побудь тут немного один, без меня... я ухожу в пустоту, но ведь ее тоже надо познать... пройти... из конца в конец... Я хороший ходок, Исса... ноги мои все в мозолях... ноги мои гудят и болят... звенят, как колокольцы скоморохов... поцелуй мои ноги, Исса, они много прошли, за тобой, в поисках тебя... они твои... и все во мне – тоже твое... и я ухожу опять... как трудна дорога... как далек путь... все снег и снег... все снег и ночь...
Я вздохнула сгусток черной крови, в горле у меня заклокотало, ребра раздулись, и святая жизнь вышла из меня, выхаркнулась вместе с кашлем, воздухом, страданием.
Дети держали меня за руки.
Старик стоял надо мной.
Он улыбался. От его улыбки шел свет, как от фонаря в метели.
И краем тьмы бессознанья я услыхала:
– Отдохни. Я разбужу тебя. Я сделаю все, что ты просила.
.................почему ты ходишь в капюшоне?.. Чтобы голова не мерзла никогда?..
– И не перегревалась... Я привык... Ты знаешь, ноги гудят...
– Они гудят, как те трубы и дудки гудошников?.. Скоморохов?..
– Громче, громче...
Рука тонет в золотых волосах. Возьми мой затылок, крепче сожми. Рука – горячая лодка. Качай. Качаться вместе в лодке. В корабле. Сплетаться двумя канатами. Волос к волосу. Пусть из нас совьют тугое корабельное вервие. Просмолят. Пусть нами связывают бочки, ящики в беззвездных вонючих трюмах. Крепче нас веревок не будет в мире.
Простыни сбились в комок. В снежный ком. Тогда, на площади... сугроб... дети... Дети кричат за стеной. Чужие дети. Чужая страна.
Он прикасается грудью к груди Ксении. Ее голая грудь. Его женщина. Он шел долго. Он прошел города, страны, времена. Вот она – служанка в чужой семье, в чужом времени. Ветер пытается высадить стекло. Он целует ее грудь. Капюшон сползает с его головы. Ах, стриженые волосы, бритые в тюрьме, отросли. Выводили вас в тюрьме не прогулку?.. А как же. Мы ходили кругами. Один круг, другой, третий. На девятом круге многие сходили с ума.
– Так это ты... ты... ты тоже... на Корабле...
– Я, я. Где твои губы?.. молчи... Прекраснее тебя нет женщины в мире.
– ...ха, ха!.. такое все говорят... своим любимым...
– Что ты делаешь со мной... губы твои прожигают меня насквозь... Я же буду весь в ожогах... в горящих звездах...
– ...я же сумасшедшая, и мне все дозволено. Я так хочу...
– Что ты хочешь?..
– Я хочу всего... того, чего у нас с тобой еще не было никогда...
Струение золотых волос. Кружево голландских простынь. Мятая подушка. Две головы на ней. Какой век? Какая жизнь?.. Все равно.
– Я привез тебе еще подарок... где меня только ни носило... вот он...
Шарит за пазухой. В кулаке ожерелье. Красивый, ценный, крупный жемчуг. Белые горошины перемежаются розовыми и черными. Где его добывают?.. В восточном море, твоем родном, там, где ты жила когда-то. Ныряют глубоко бедные ныряльщицы, ама, хватают быстро со дна раковину, вытягивают на берег, задыхаются. Бывает, ама умирают прямо в море, под водой, с раковиной в руках – воздуху не хватает, легкие разрывает кровь. Или любовь? Ведь они любят красоту?.. Они любят деньги. Им надо кормить детей.
Он надел ожерелье Ксении на шею. Он уже дарил ей жемчуг когда-то там, в трактире, где пировали нищие, и она его не приняла. Низка скользнула на нежную грудь. Белый, розовый и черный мир покоился меж ее сосков, мерцал и замирал. Он стал целовать жемчужины – одну за другой. Вот жемчуг в губах. Вот черная живая жемчужина. Она застонала. Не выпускай жемчуг, прошу тебя. Твои губы – море. И я тону в них. Тону, как та нищая девочка-ныряльщица. Умираю. Как долго я плыла в людском море без тебя.
Она откинулась на подушках, и он увидел ее всю, сразу – и буйство золотых густых волос, стекающих по простыням на пол, уже наполовину седых, и холмы нежных грудей, глядящих чуть вниз и врозь, как козье вымя, и худые выпирающие ребра, и отвисший, огрузлый живот, носивший детей и рожавший их, – великое чрево, отмеченное шрамами от пуль и ножей, от побоев и пыток; и тонкие запястья, жилистые и рабочие, и кисти рук со вздувшимися жилами – рук, знающих тяжесть ведер и чугунных рельсов, скользкость сырого мяса на кухнях и сырого белья в стиральных чанах, рук, гладивших его по щекам и плечам, нежнее самых нежных снежинок, нежнее прикосновения лепестков гвоздики и ромашки, – родных рук его Ксении, и скорей целовать их, любимые руки, целовать без конца; увидел ее длинные неустанные ноги, выносливые, как у хорошей рабочей лошади, выносившие ее тело по страшным дорогам жизни, увидел ее огромные странные глаза, непонятного цвета – то густо-синего, то серо-стального, то почти черного, с оттенком холодной сырой земли, схваченной первым инеем; ее раскрытые ждущие губы, кричавшие на площадях жгучие слова, от которых останавливается сердце, и шептавшие на ухо то, о чем молчат осенние звезды в небесах, – увидел ее всю, любимую, желанную, обретенную, – Господи, неужели можно ее потерять сейчас, найденную, сужденную?!.. Он обнял ее, положил навзничь и стал целовать ее тело. Все тело – от плеч и грудей до лодыжек и щиколоток; зарылся лицом в ее живот, нашел губами пупок... вот здесь была пуповина, что связывала ее с материнским нутром; она вышла из кровавого лона, как богиня из вод моря – крохотный орущий младенец, слепой и беззубый, разевающий рот шире варежки, без имени, без судьбы, без прошлого – лишь с одним будущим. И в этом будущем роились вокруг нее людские рои, сверкали людские радуги, свистели людские хлысты, бичующие ее; и в этом будущем был он, из ранивший себе босые ноги зеленым байкальским льдом. Она никогда не умела правильно произнести его имя – все коверкала, переиначивала, играла им, как мышка – крылом стрекозы, держала, как мятную лепешку, под языком, – нет, она боялась назвать его по-настоящему, суеверно скрывала от себя самой: а вдруг назовет – и он растает навек, исчезнет... или – засияет во всем блеске и славе своей...
– Иди ко мне, обними меня, – сказала она просто, – мне не верится, что мы вместе. И я чувствую снова разлуку. Она близко. Она страшна.
– Родная моя, жизнь всегда страшна, – прошептал он, обнимая ее и ложась на нее всею тяжестью долгого бессмертного тела, – но разве мы с тобой ее боимся?..
– Я боюсь... боюсь...
Она задыхалась. Он входил в нее всем средоточием любви, тяжелым острием, клятвой тела, узнавшего цену духу и чувству. Он направлялся к ней и устремлялся навстречу, втискивая непомерную огромность любви в узкое жерло живой, единожды данной жизни. Громадными, безбрежными волнами содрогался он, и она содрогалась вместе с ним, отвечая его выстраданному порыву, отдаваясь его вечной воле; они вместе плыли по реке вечности в вечной ладье, в течение вертело и крутило их, и колыхала стремнина, и кружилась голова, когда они оба, наклоняясь, смотрели, как бурлят за бортом водовороты, чернеют омуты, свечками выпрыгивают из воды играющие рыбы.
– Мы как две ладони, наложенные одна на другую...
– Нет. Мы просто – одно. Одно.
– Что это?.. Что это?.. Что это?.. Что это?..
– Это любовь. Это жизнь. Это наше ложе. Это молитва.
– Ты – моя молитва.
– Да, да, да!..
– Только всегда люби меня. Где бы ты ни был. Где бы я ни была. Кто бы мы ни были. Зачем ты меня нашел?..
– Молчи... Я целую тебя...
Они обнялись крепче. Еще крепче. Тихо было в каморке. Где были дети? Где был Командир? Тишина обнимала землю. Шло ли время? Они не знали. Его смуглое тело покрылось росинками пота; он не отрывал губ от губ Ксении; она соединила руки вокруг его шеи, у него на затылке. От их сплетенных тел шел сильный жар. Треснула и разбилась бутылка из-под масла на полке. Осколки посыпались на пол.
– Ты знаешь... я сплю на кухне... в ящике из-под картошки...
– Ты уйдешь вместе со мной. Я унесу тебя из всех ящиков. Из всех кухонь.
Их тела раскалялись. Грудь Ксении часто поднималась. Он целовал ее грудь, шею, глаза, снова припадал к губам – так смертельно больной припадает к кружке со спасительной холодной водой, утоляя последнюю жажду. Он жаждал ее. Она была его водой, его воздухом, его жизнью.
– И ты тоже – жизнь моя...
Бессмертие – вот оно. Грудь в грудь. Ребра в ребра. Губы в губы. Боль любви. Долгий поцелуй. Сплетение языков, ртов, дыханий, кровей, сердец. Перетекание жизни в жизнь. Неостановимо. Неисцелимо.
– А почему... – она покрыла поцелуями его лоб, виски, скулы, – почему ты там... на Корабле... разговаривал по-птичьи?.. Притворялся дурачком?.. Боялся, что я тебя узнаю?.. Или...
– Я дал обет. Я дал себе такой обет. Побыть в твоей шкуре. Поскитаться. Посуществовать дурачком. Изгоем. Отверженным. Носить капюшон и в холод и в жару. Изведать тюрьму. Испытать побои и пытки. Ощутить, каково это – брести в метель и в зной по дорогам пространства, по долинам времени, смещая их и путая. Узнать, как бьет отечество родными камнями родного пророка. И, пройдя все это, снова обрести тебя – дорогую и светлую; я поел твоего хлеба – я стал не только возлюбленным твоим, но и братом твоим. А хочешь... – от поднялся на постели. Слепой рукой нашарил на столе нож.
–...хочешь, будем кровными совсем?..
Он резанул себя по запястью. Кровь потекла из пореза красным струистым гребешком. Повернул Ксеньину ладонь.
Поглядел на нее: можно ли?
– Режь!..
Тонкое запястье окрасилось алым. Он наложил свою руку на ее руку, и их крови смешались.
– Пусть у нас родится сын...
– У нас уже есть сын.
– Ну, тогда дочь...
– Дочь... мне приснилось... она уже была... ее уже нет на свете... или я...
Рыданья перехватили ей горло. Он поцелуем закрыл ей рот.
– Ты бредишь... ты спишь... ты спала... дочь твоя еще не родилась... она еще бегает меж малиновых, меж серебряных Райских хвощей и тюльпанов... ты назовешь ее... как ты назовешь ее?.. Как хочешь, воля твоя...
Ладья качала их. Радость обладания. Радость отдавания. Счастье умирания вдвоем. Все, что есть у человека на свете, – это любовь. Горе любви, радость любви – все растворится во времени, все канет, все исчезнет, продастся за высокую или за грошовую цену. Но любовь – это все, что у человека осталось после изгнания его из Рая. Наши праотцы согрешили. Ох, сладок был плод с дерева добра и зла. Любовь – добро она или зло?.. Ответь мне... ответь...
– Я люблю тебя.
– И я люблю тебя!
– Вот за этим я и пришел на землю, Ксения.
– А люди?.. Я думала, ты пришел ради людей... чтобы их спасти... чтобы опять искупить их грехи...
Какое безумие! Прижаться еще крепче. Сильнее. Боль рвет сердце. Колыханье, пребыванье тела в теле рождает смятение души. Серьга входит в ухо; мужское входит в женское, и женское создано для мужского. Раскололи орех на две половинки! Ты не отличишь их. Как срослись все наши жилы, все кости и сухожилия, все сосуды и живые ветви, оплетающие каждый бьющийся в страсти кусочек золотой плоти. Плоть – это душа. Плоть – дух. Это возможно только в любви. Только с любимым.
Целуя тело твое, я целую душу твою.
Целуя губы твои, я целую сердце твое.
Только с любимым возможна жизнь.
И только с любимым возможна смерть.
– Я много раз умирала, любимый... и еще буду умирать... сделай так, чтобы я умерла вместе с тобой...
– Я умру на этой земле еще раз, и ты умрешь вместе со мной. Обещаю это тебе. Так и будет.
Они застыли, обнявшись – так в домне застывает расплавленный металл. Тишина. Тишина в доме. Где Командир? Он твой муж?.. Нет. Он просто мой хозяин. Он не трогает меня. Я не умею говорить на его языке. А дети?.. Дети любят меня. Я делаю детям все. Я умею делать так, чтобы им было хорошо. Когда я вспоминаю о своем сыне, я плачу. Схватывает горло... вот здесь. Я не могу тогда ни готовить, ни мыть полы, ни вязать носки. Я сажусь на ящик в кухне и плачу. Плачу долго и страшно. Верни мне сына. Верни мне сына. У нас был сын. Помнишь. Ты помнишь это. Где он теперь. Я умираю без него. Я с ума сойду. Я прошла много земель. Я семь железных башмаков износила. Я отработала и тебя, и его. Сжалься. Верни мне Родину! Я умру без нее!
Он обнял ее еще сильнее, положил голову на ее грудь и вытянулся в неистовом содрогании, в последнем крике и стоне, в полубезумном выхрипе: “Люблю...” – его глаза блуждали по холмам ее груди, по дорогам ключиц, ощупали бирюзовый крестик в яремной ямке... он налег на крестик щекой, вжимаясь губами и зубами в родную плоть, целуя, всасывая, вбирая, пытаясь проникнуть в сердцевину тайны, напечатлеть свою печать, достигнуть дна жизни, женщины, желания...
– Ксения... Ксения...
– А может, я не Ксения вовсе, – улыбнулась она, отирая со лба ему пот, – может, я одна из тех... твоих... может, я та... длиннокосая... из Магдалы... не вылезавшая из лупанаров... на каком языке я говорю с тобой?.. на своем родном?.. на твоем... или... или...
– Собирайся. Идем...
– Как, вот так?.. Голой?... И... куда?.. Нам же... некуда идти... ты понимаешь это?..
Она закрыла глаза, задремала. Жемчужное ожерелье на ее шее переплелось с бечевкой бирюзового креста. Он стал медленно одеваться. Напялил капюшон. Влез в штаны, в сапоги. Валенки... они остались там, в снегах. За стеной играли и возились дети, мальчик Иван был с ними. Командир, хозяин дома, отец детей, не появлялся: загулял, должно быть. Как ты прекрасна, когда дремлешь, Ксения! Руки и ноги твои поют песню, плавно текут теплым молоком; косы твои обнимают тебя русыми руками, шумящими ветвями; тень от густых ресниц твоих ложится на твои исхудалые щеки, и чуть улыбаются губы твои, вспоминая недавние объятия и поцелуи. Шея твоя лебединая, Ксения, и крест бирюзовый у тебя на груди – поцелуй неба. Кто подарил его тебе?..
– Твоя мать, – пробормотала она во сне.
Он опять припал ртом к ее устам.
– Спи, спи... Еще есть время... Отдохни... потом пустимся в путь... Дорога далекая... Во сне человеку прибывают силы...
Она уснула крепко. Чуть похрапывала. Щеки ее зарозовели. Он не хотел ее тревожить. Иван, Иоанн... заигрался, пора бы и честь знать... миг это был, день, час или год?.. Никто не знает, и он – меньше всего...
Она вскинулась во сне, протянула к нему руки.
– Исса... Исса... как же это я не узнала тебя... а я думала, я тебя всегда и везде узнаю...
Он подхватил ее на руки с постели, розовую, мокрую от пота любви, сонную с блеском белков сквозь ресницы, с озерами синих глаз.
– Красавица моя... Собирайся! Идем!..
Раз, раз. Быстро потолкать все в котомку. Немудрящий скарб. Да и нужен ли он? Потребен ли он им, питающимся Духом Святым? Дорожной милостыней? Воздухом своей любви?... Ксения заплела косу, чтобы волосы не мотались на ветру. С косою вид ее стал совсем русский, родной. Она окинула взглядом растерзанную кровать, зеркала по стенам, комоды, стулья, шкафы, кружева штор. И она жила в доме?.. Жила среди всего домашнего, обихоженного – утвари, мебели, диванов, печей, зеркал?!.. Улыбнулась. Захохотала...
– Иван! Иван!.. Где ты!.. Пора! Прощайся с детьми!
Мальчик показался на пороге. Его глаза блестели возбужденно.
– Ну, до чего говор у них чудной, Учитель! – воскликнул он, – все тыр да пыр, а и непонятно ничего! Мы по пальцам друг друга понимали! А потом просто по смеху! Засмеемся – и поймем!..
– По смеху люди друг друга будут понимать во времена после Башни Вавилонской, – задумчиво проговорил он,– по смеху и слезам...
Они вышли из дома все вместе, втроем. Стояла глубокая ночь. Когда они шли по городу в молчании, с узелками за плечами, навстречу им попался пьяный Командир. Он распевал смешные песенки, вставал на цыпочки и пытался станцевать джигу. Его глаза глядели в разные стороны. Он не увидел мужчину, женщину и ребенка, одетых в плащи с капюшонами, несущих за спиной котомки. Они шли молча. Они прошли стороной.
Они неотрывно глядели в сторону моря, плескавшегося призрачным фосфорическим светом в тревожной зимней ночи.
КОНДАК КСЕНИИ ВО СЛАВУ БОГА ЕЯ, НАД МОРЕМ ЛЕТЯЩЕГО
– Как ты думаешь возвращаться?..
Я спрашивала глупость. Разве есть на свете возвращение? Вся жизнь есть только движение вперед. Когда человек хочет вернуться в прошлое, он все равно идет в будущее; и когда он хочет вернуться в прошлое, он все равно идет в будущее; и когда он хочет вернуться туда, где он жил и любил когда-то и смотрит назад, он смотрит назад, как вперед. Потому что глаза у него не на затылке, как у стрекозы, а во лбу, и всегда глядят только вперед. Поэтому возвращение невозможно. Возможна лишь мечта о нем. И она никогда не сбывается.
– Как-нибудь.
Мы глядели на ночное море. Оно горело розовым, фиолетовым светом. Блески и блики ходили по нему. Так горит в лунном свете косяк рыбы, идущей на глубине и внезапно поднимающейся к поверхности воды; так пылает рябь и зыбь на водяном шелке, когда Луна смещается к западу и приобретает ало-лимонный цвет, и морская вода, вторя ей, окрашивается медовым, брусничным, малиновым. Розовое серебро. Восточная сталь. Виссон азиатских базаров. А море-то северное. И зимняя ночь. Не замерзает оно. Здесь тоже можно ходить по воде. Смело ходить, как по изумрудному Байкалу. Не боясь. Не страшась. Веря. Веруя.
– Мы пойдем с тобой... по воде?..
– Да, родная. Если захочешь – по воде.
Мальчик Иван молчал. Да и что ему было говорить? Они, все трое, стояли на обрыве; под их ногами плескалась, уходила вдаль безбрежность, горящая светом горячей любви к жизни. Их любовь была широка, как море. Ее не могли вместить берега жизни.
– Я боюсь... Я никогда не ходила по воде...
– Не бойся. Только веруй. Я же с тобой.
Мы хотели спуститься с обрыва по тропинке, занесенной колючим жестким снегом, к шуршащей кромке воды. Я уже высмотрела эту тропку и молча указала на нее Иссе и Ивану. Мальчик, показывая себя самым смелым, занес ногу, чтобы спускаться. Исса обернулся. Увидел. Резко повернулся ко мне. Показал рукой.
– Там, Ксения! Там!
Обернулась и я. Черная тень. Огромная черная тень. Гора. Глыба. Черная туча. Лопасти. Винты. Железная птица. Она спит. Летающий железный спящий в ночи корабль. Страшный. Неизбежный. Зачем он здесь. Я знаю его. Я не хочу видеть его.
Исса крепко взял меня за руку. Иван прижался к моим коленям.
Ночь мерцала огнями, снегами, пылающей морской ширью.
Справа и слева расстилались, переливались огни приморских городов, городков и поселений. Время, сужденное, нам, вступало в свои права.
От железной птицы прямо на нас шел Горбун. Он шел, усмехаясь, глядя мне в лицо немигающими глазами. Его лицо было бело, как мел, как снег. Он не ускорял шаг. Двигался размеренно и торжествующе. Как победитель.
Ближе подошел. Сверкнул глазами. Жидкую прядь приморский ветер отдул со лба.
– Вот, Ксения, – голос его был похож на скрип, – как нехорошо прятаться. Нехорошо жить спокойно, как будто ничего не происходит. Ты же прекрасно знаешь, кто сильнее. Ты хотела бороться со мной. Зря.
– Я ни с кем не хотела бороться! – крикнула я. Ветер забил мне горло. Исса молчал. Иван мочал, подняв головенку.
– Не хотела, а борешься,– назидательно проговорил Горбун. Я не могла без содрогания глядеть в его бледное лицо. Он сложил губы в странную и страшную ухмылку – редкие зубы проблескивали между губ, как стальные штыри. – Ты подставляешь щеку для удара... левую или правую... а сама в это время думаешь, как ударить. Это плохо. Это не делает тебе чести. Вот и Бог твой то же скажет тебе.
Он кивнул головой на Иссу. Не глядел на него. Он глядел на меня. Злобы в его глазах могло хватить на истребление всего мира. Да и что для него был весь мир, как не вещь? Одна большая и очень дорогая вещь, которой надо было завладеть во что бы то ни стало?..
Он шагнул к Иссе. Шаг. Еще шаг. Я не успела ни закричать, ни ударить Горбуна по рукам. Я не думала, что этот карлик настолько силен. Я ахнуть не успела, не смогла броситься, защитить, грудью закрыть, вцепиться зубами, как волчица или львица. Горбун в мгновение ока схватил Иссу на руки, размахнулся и с силой кинул под обрыв, в пропасть, в море.
И, пока Исса летел вниз, к сияющей воде, в ночи, я поняла. Я знала, что надо делать. Не рассуждала. Исса летел вниз. Я бросилась к железной птице. У спущенного трапа стоял бак с горючим. Я выдернула зубами пробку. Так. Быстрее. Лить, лить! Обливать! Щедро! Как пахнет эта смесь! Она ждет огня! Она любит огонь! Я тоже люблю огонь. А ты, Горбун, огонь не любишь. Ты не улетишь отсюда. Ты останешься здесь навсегда. Потому что я сильнее. Исса летел. Горючее текло, лилось и брызгало во все стороны. Какая маленькая железная птица. Вертолет. Вертятся лопасти, люди летят внутри, как яйца в курице. Курица не умеет летать. Иногда падает на землю. Разбивается. И разбиваются яйца внутри нее. Судорожны движения мои. Я никогда не хотела никому смерти. Я молилась за жизнь. Люди, что вы сделали со мной. Я убиваю не Горбуна. Я убиваю его железную птицу. Он никогда и никуда больше не полетит. Исса летит. Исса летит еще. Вниз. К розово сверкающему в зимней ночи холодному морю. Он летит из времени в довременье. А я во времени остаюсь. Чем я подожгу железную птицу?! Факелом?! А факела-то у меня и нет. Я должна сделать его быстро. Должна. Из чего?!.. Исса летит. Я делаю факел – из своих кос. Иван, развяжи котомку! Дай нож! Живей! Вот он. Острый. Надежный. Хорошо таким резать рыбу, мясо. Я наклоняю голову, золото волос свешивается вниз, я ухватываю их рукою в сноп, зажимаю в кулаке и режу, кромсаю, бью ножом. Вот уже затылку холодно и легко. Вот уже пук золота, соломы – в моей сжатой до синевы руке: моя одежда, коей укрывалась в морозные дни, моя постель, на коей спала я в бездомовье и сиротстве. Прости-прощай! Скорей! Иван! Огня! Мальчонка, белее Луны щекой, напуганно возится в котомке. Давай! Быстро! Он тянет мне на ладони коробку шведских спичек, я хватаю их, пытаюсь зажечь, они валятся у меня из дрожащих рук одна за другой, я беру их в зубы, чиркаю о коробку, пук волос мешает мне, ползет лисьим хвостом по земле, по смерзшимся комьям. Исса летит. Факел, сделанный мною из моих волос, пылает в моей руке. Я подношу его к железной птице, облитой горючей смесью. Горбун, глядящий на падающего с обрыва Иссу, оборачивается. Видит бешеное пламя, мгновенно и бесповоротно охватывающее железный остов, винт, костяк, трап, опорные лапы.
Пламя гудит, взвивается к ночному небу, взмывает желтой и красной птицей, хлопает на ветру крыльями, трещит и сыплет искрами, безумствует, хохочет, вьется. Оно живет! Оно живое! А не мертвое, как ты, Горбун!
Я люблю жизнь! люблю живое! Исса летит. Исса, я люблю тебя! Гляди, как славно горит мертвечина! – железо, кости, гвозди, болты! Все мертворожденное, все гиблое и неподвижное! А пламя живет! Оно бешеное! Оно танцует и дышит! Оно разъяренно бросается на все мертвое, на все поддельное, темное, тупое, безглазое, без сердца внутри!
Горбун остановившимися глазами глядит на огонь. Его глаза становятся красными. Цвета крови. Видит ли он ими? Невидяще он глядит на меня. Он идет ко мне. Он медленно идет ко мне. Он протягивает ко мне руки. Тянет когти. Вместо глаз у него – черные дыры. Вместо рта – чернота.
– Вот тебе твое владычество! Вот тебе мое житье между планет! – кричу я ему в лицо. А лица у него и нет. Вместо лица – мертвая белая маска, плоская, железная. Железная птица горит. Исса летит. А может, там, внизу, у берега, колыхаясь на черно-розовой воде, его ждет наш Корабль?!
Лети! Лети, жизнь моя! Лети, счастье мое! Железо горит, и Горбун медленно идет ко мне. Я хватаю на руки Ивана. Помнишь Красную площадь?! Брата своего Николая?!.. Зажмурься! Сейчас мы тоже прыгнем вниз! Полетим! Бог нас спасет! И этот, безлицый нас не тронет! Мы все равно сильнее, Иван. И мне жаль Горбуна, Иван. Он несчастный. У него нет лица. Нет жизни. Нет любви. У него было всего – один обман да глупая железная машина, на коей он летал по небу, думая, что он и птица, и Бог. Никакой не Бог он и не птица. И не царь. И не владыка. Он просто несчастный маленький горбун. Жалкий человечек. Жидкие волосенки. Редкие зубы. Дрожащая на ветру душонка. Да, да, есть у него душа, Иван, есть у него душа. Ее долго и больно били. Корежили. Коверкали. Четвертовали. Колесовали. И потом еле живую в мир отпустили. И вышел он уродом – ни кожей, ни рожей не удался, так силой хотел взять свое. А силой в мире мало что возьмешь. Ничего силой не возьмешь в мире, Иван. Ничего.
Я думала, он меня схватит когтями за лицо, а он упал передо мной на колени.
И обхватил мои колени цепко, крепко, и заплакал, как не плакали люди никогда в мире сем, а только оборотни, лишившиеся колдовства своего.
– Ксения!.. Прости!..
Исса летел. Корабль, с розовыми и серебристыми парусами, с золотыми мачтами и реями, ждал внизу, под обрывом. Летя, он перевернулся, ноги его оказались в воздухе выше головы, и он вошел в воду головой, закутанной капюшоном, и смуглая нога его восковой свечой зажглась на черном шелке воды, вышитом розовой гладью огней и далеких звезд.
“Прости меня, Милосердная Матерь Бога моего,
за небрежение мое святыми дарами Твоими.
Вот, я потеряла сына моего и нашла его;
вот, я потеряла народ мой и нашла его;
прости за то, что не сберегла жизнь мою – драгоценный подарок
Возлюбленного Сына Твоего”.
Покаянный псалом к Богородице св. Ксении Юродивой