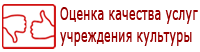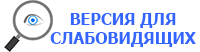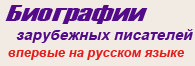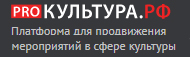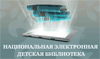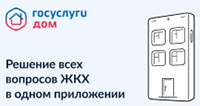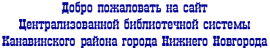
4
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«...поставили кабакъ у переправы, а ниже ихъ макарьевского перевозу на Волге реке съ полверсты другой кабакъ и на ихъ макарьевскомъ перевозе построили ледники и заводятъ третий кабакъ... подле часовни и чудотворныя иконы и подле келлий перевозныхъ ихъ старцевъ...
А на тотъ ихъ монастырской перевозъ черезъ Волгу реку проезжие болшие дороги нетъ, толко приезжаютъ въ монастырь по обещанию своему богомольцы. И отъ того де новаго кабака богомольцомъ приезжать во обитель впредь будетъ опасно и имъ де во обители и на перевозехъ жить опасно жъ, потому что то де место отъ жилыхъ местъ не близко и въ томъ де месте учнутъ держаться воровские люди...»
Челобитная от властей Макарьева Царю Алексею Михайловичу в Москву, 1666 год от Рождества Христова
АГЛАЯ СТАДНЮК предпочитает ТОЛЬКО ЧЕРНУЮ ИКРУ!
Она готова платить за нее МИЛЛИОНЫ!
АГЛАЕ все равно, что продажа черной икры в России ЗАПРЕЩЕНА!
Звезде доставляют черную икру САМОЛЕТОМ, ОТБОРНУЮ, ПРЯМО В ПОСТЕЛЬ, и Аглая ест ее из золотой антикварной ЧАШИ работы ВЕЛИКОГО БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ, купленной на аукционе ФИЛИПС за ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, золотой ЛОЖКОЙ работы ЛЕГЕНДАРНОГО ЮВЕЛИРА ФАБЕРЖЕ!
На нашем снимке – Аглая, черная икра и звездная спальня.
НЕПЛОХОЙ ЗАВТРАК, СОГЛАСИТЕСЬ?
КОГО ЖЕ ЗДЕСЬ НЕ ХВАТАЕТ?
КАЖЕТСЯ, КАВАЛЕРА У НОГ ЗВЕЗДЫ…
АГЛАЯ СТАДНЮК – САМАЯ ЗАВИДНАЯ НЕВЕСТА РОССИИ!
1.
На автостанции в райцентре было пустынно и уныло. В зале ожидания сидела старуха, грызла семечки; на воле бесилась, металась между домами метель, обнимала редких пассажиров, валила с ног прохожих.
– Вот в погодушку поехали! - весело крикнул Степан. - Ну ничего, зима бодрит!
Мария согласно кивнула. Она повязала поверх шапки старую серую шаль – и стала похожа на деревенскую бабенку, на одну из них, из местных.
Петр все-таки появился дома. Она ничего не стала ему говорить – ни про повестку, ни про суд. У него только недавно зажили свороченный нос и разбитые десны. Она не могла ничего ему сказать. Ничего.
Сказала только: «Я на несколько дней еду в деревню. Отдохнуть. На тебя стариков оставляю».
«С кем едешь? В какую деревню?» - спросил Петька.
«Со Степаном. В Василево. К нему».
Петр пожал плечами. «Да с кем хочешь. Да куда хочешь. - Криво повел ртом вбок. - А я, значит, старичкам супчик вари, да? Погорельцам...»
Мария опустила низко голову. И Петру стало стыдно. «Ладно, мам, ладно. Езжай. Я ничего. Я справлюсь».
Она хотела спросить его про пистолет. И не спросила.
Метель, метель...
– Ничего! - крикнула в ответ Степану Мария и туже завязала на затылке шаль. - А теперь нам что? Куда?
– Автобуса ждем! На Лысую Гору!
– Лысая Гора! Твоя деревня?..
Снег залетал в их открытые, улыбающиеся рты.
– Переправа! Доедем – дальше по льду, по Суре пойдем!
Трясясь в автобусе, Степан крепко прижал Марию к себе, как жену. И она прижалась к нему, привалилась головой. Под туго повязанной шалью лицо ее, румяное от мороза, казалось молодым, они сейчас со Степаном смотрелись парой, на равных. И он почувствовал это, отодвинулся, ее похорошевшим лицом залюбовался.
Попутчики равнодушно глядели на них, мимо них. В залепленные ледяными хрустальными хвощами автобусные окна. В свои думы; сами в себя. Степан вертел головой, пытаясь глазами выцепить кого знакомого.
– Дядь Вова! - негромко окликнул старика в огромном треухе. - А дядь Вова!
Старик обернулся медленно, нехотя.
– А-а, Степка, - кивнул. Лицо у старика, под чудовищным треухом, глядело крохотное, серое, остроносое, как у мышонка. - Плохо видю! Я тя по голосу узнал. Голосок твой ни с кем не спуташь. Чо, зимой-то пресся к нам? А кто у тя под мышкой? Баба? Твоя?
– Баба моя, - Степан сильнее прижал Марию.
Лысая гора было крохотное сельцо на самом берегу Суры. Сейчас, зимой, избенки до крыш замело изобильным снегом. По небу неслась густая, рваная вата серых, брюхатых снегом туч. Около самой кромки льда тонул в сугробах серый, как мышь, сруб, на нем красовалась рукодельная вывеска: «ТРАКТИРЪ. «ДАМБА».
– Твердый знак не забыли. Грамотеи, - усмехнулся Степан.
Дядя Вова чихнул и встряхнулся, как мокрый пес.
– По вешкам поташшимся?! - крикнул он сквозь взвыванья метели.
Они втроем медленно, увязая в снегу, подбрели к закраине льда. Перед ними расстилалось жесткое, железное поле зальделой реки; лед был где засыпан снегом – там блестел бело, как сахарная пудра, где ветер беспощадно сдувал снег – там был изрезан, как гладкий камень, полосами, пробоинами, следами колес, нарезами ребячьих коньков. Мрамор напоминал серый. Или – бок, шерсть лошади серой, в яблоках.
Ветер колол острыми снежинками лица. Мария потерла щеки варежкой.
– Что, пошли? - крикнул Степан.
И они, набычившись, выставив головы вперед, сопротивляясь ветру и снегу, побрели по льду Суры.
– Сколько километров идти? - крикнула Мария.
– Не знаю! - Степан шмыгнул носом, утер нос рукавом. - Километра три!
Дядя Вова шел впереди, вроде как показывал дорогу. Не оборачивался.
Так, втроем, они медленно двигались по льду, то серому, то желтому, то сине-голубому, то чисто-белому. То справа, то слева торчали ветки, штырьки деревянные, кустики рукодельные – а то и флажки, к веткам привязанные, на ветру мотались: вешки. Мария представила: ведь по льду, из Василева на Лысую Гору и обратно, идут люди, и старики, и дети, и бабы, и мужики, идут, идут... до каких пор? А когда – весна? И лед начинает подтаивать? А когда осень – ждут долго, как встанет?
И тонут, тонут ведь... Каждый год тонут.
А они – не утонут. Зима в разгаре. Лед толстый, как дубовый ствол. Хоть скачи, танцуй на нем. Вон следы шин. Машины ездят. «Дорога жизни», - усмехнулась она.
Василево, остров... Ни моста, ни креста...
– Степа! - крикнула она, и он остановился и оглянулся. - Степа! А раньше! Тут! Церковь! Была?!
Она показала рукой в варежке на василевский белый, крутой бугор, возвышавшийся над Сурой.
– Пять церквей! - крикнул Степан сквозь ветер. - Звон колокольный стоял!
Перешли Суру. Отдыхали. Вспотели. Мария шаль развязала. Мышонок дядя Вова сорвал с башки треух и исподним его мехом вытирал лицо, лоб.
Потом, отдышавшись, снова пошли – теперь вверх, все вверх, в гору. Гора в Василеве была огромная, крутояр. Шли долго, на поворотах опять отдыхали. Пот уже лил с Марии градом. Степан курил. Дядя Вова плевал на снег черной слюной.
Показались первые избы. Впечатление у Марии было: мертвое село. Ни огня в окнах, ни человека на дороге. У сельской пожарки дядя Вова помахал рукой и свернул по улице, уходя от них, уходя. Степан крикнул ему в спину:
– Дядь Вова! Мы к тебе придем, чайку попить!
Дядя Вова, не оборачиваясь, крикнул, и голос едва донесся из завывания метелицы:
– Самогончика лучче!
Мария стояла и глядела, как Степан отдирает доски от окон.
Досками были наглухо забиты окна дома.
Он приезжал сюда редко. И почти никогда – зимой.
Видно, с ней вот в первый раз – приехал.
Степан сильными руками хватался за доску, крякал, поддевал карманным ножом гвоздь, рвал доску на себя, и доска поддавалась. С треском отдирал одну, бросал на снег. Принимался за другую. Шапку сдернул, на снег бросил. Стоял по колено в снегу, пушистом, как загривок молодого волка.
Мария стояла около калитки, ждала.
Степан отодрал доски с двух окон. С третьего – не стал.
– Нам света хватит! Хватит?
Она осветила его улыбкой, зубы ее блеснули в сумерках.
В избах, в окнах стали загораться первые, редкие огни.
Степан, вытаскивая ноги из снеговой толщи, подбрел к Марии. Поцеловал ее в метели, потерся носом о ее нос.
Потом поднялся на крыльцо, стал копаться в замке, отворять избу.
Распахнул все двери, одну за другой.
– Залетай, метель! Выдуй старый дух... прошлое...
Мария улыбалась, поднималась на крыльцо, входила в дом.
– Ты сказал – развалюха... а тут очень даже ничего...
– Я за дровами. Они в сарайчике. В саду.
Они долго растапливали печь. Все бросали и бросали в нее дрова, а печь никак не могла насытиться, разогреться. Все холодная стояла, как подлодка железная.
– Вымерзло все как, - Мария поежилась. - Неужели мы так натопим, что можно будет здесь спать?
– И даже раздетыми, - Степан подмигнул ей. - Еще так жарко будет – задохнешься!
Они топили печь два, три часа. Сидели перед печью на корточках. Вставали. Курили. Мария думала: вот так же и Федор перед печью сидит, курит, дым, как сивка-бурка, изо рта выпускает, думает: куда же это моя Машулька пропала?
«Он ведь ничего не знает про Степана. Ничего. А Степан ничего не знает про него. Правду, может, отец Максим сказал, грешная я? И каяться – надо?»
Они все-таки легли спать в одежде. Не смогли натопить в избе до тепла.
Обнимали друг друга руками в рукавах свитеров. Ногами – в теплых брючинах. Одеяло на головы натягивали, как дети; смеялись тихо. Засыпая, Мария смотрела на рукав своего старого свитера из литовской шерсти. Из шерстяных петель торчало брюшко, с лапками, высохшей пчелы.
«Пчела засохла, а мы живые», - проваливаясь в сон, сказала себе она.
А наутро, едва рассвело, Степан встал, быстро оделся, нагнулся над спящей Марией и прошептал ей, губы в губы:
– Маша... Я на подледный лов пошел.
Он хотел угостить ее сурской рыбкой.
Удочки для зимнего лова под кроватью нашел.
А наживка? Проще простого. Отломил от дорожного хлеба кусок, сунул за пазуху.
А она спала, спала, все спала и спала. Укрылась одеялом с головой. В шерстях, в брюках ей стало под одеялом жарко, и она выползла из-под него, как из пещеры.
Ух ты! Свету в избе было столько, что его, как мед, можно было черпать ковшом, горстями! Золотой, сладкий, медовый свет заливал комнату. На стеклах буйно расцвели морозные папоротники. Искрились, алмазно, радужно переливались, вспыхивали розовым, сапфирово-синим. Не дом – церковь, и алтарь сияет, - подумала Мария весело. Спустила ноги с кровати на холодный пол. Подошла к печке. Ого! Печка-то знатно раскалилась! Пышет жаром от нее! Да каким! Хоть пироги пеки!
Она обошла печку со всех сторон: из комнаты вышла в кухню, рассмотрела: не русская печь, а подтопок, но мощный, большой. Готовить можно – на железной плите, что на огне лежит. Красота! За окнами – за морозными разводами – красное, золотое солнце, и сугробы – до небес. И чистота! И тишина.
– А ты смогла бы жить в деревне? - вслух, на всю избу спросила Мария себя.
Села за стол. Нашарила в дорожном пакете разломанный хлеб. Отломила кусочек. Стала жевать.
Куда исчез Степан? Она не знала. Она спала и не услышала, что он ей, уходя, сказал. Но она не волновалась, ни о чем не думала. Так было светло, чисто, покойно.
Степан явился к полудню. Нес на кукане шесть окуньков. А в сумке – провизию: всего накупил. И мяса, и картошки, и банку молока парного в сетке тащил! И творог, и сметану! И – меда баночку даже приволок, меда, пахучего, цветочного, настоящего...
– Степочка! - Мария хохотала от удовольствия. - Степочка, это как в сказке!
– Я все сам приготовлю. Сиди. Отдыхай. Тепло ведь?! Ну я же говорил. Ты же мне все всегда сама готовишь. Я хоть тут, в деревне, за тобой поухаживаю.
Она, ступая за ним, как волчица за волком, след в след, потопала на кухню, глядела, как он деревянным молоточком отбивает мясо, как жарит на старинной, чугунной сковороде, поставив ее на печное железо; как варит в чугуне картошку; как раскладывает творог по деревянным облупленным мискам.
Когда они сели за дощатый, гладко оструганный стол, солнце уже залило всю избу до краев, и медовый счастливый свет перелился через край. Их глаза плескались в свете, и сами были светом.
Пряно, терпко пахло ухой из свежей рыбки, из Степиных окушков.
– Я как бестелесная, - радостно сказала Мария. - Как в невесомости. Хорошо, что мы сюда приехали с тобой.
– Хорошо, - согласился Степан. - Ешь!
Он глядел, как она ест. Смеялся, черпал из каcтрюли алюминьевым ополовником уху, жадно сам откусывал отбивное мясо, жевал бодро. Ему самому казалось: вот она, настоящая жизнь. А то, чем он занимался в городе, что там творил, куда стремился там, - все было ложь, и прах, и чушь, и суета.
– Я пойду баню растоплю, - сказал он ей. - Слушай, у меня куртка порвалась!
Взял со стула куртку, кинул ей. Кинул катушку с воткнутой иголкой.
– Я зашью, - обжигая его глазами, улыбнулась Мария.
Она штопала рукав его куртки, а он ушел топить баню.
Солнце било в морозные окна. Окна становились из золотых оранжевыми, из оранжевых – кроваво-алыми: это лился с неба закат, лился на деревню, на вечные снега, на избу, где сидела и шила она.
Мария зашивала дыру у Степана на куртке, и вдруг подумала – никогда не зашить ей дыру, прореху в его жизни, если вдруг что у него насмерть порвется, и внезапно рыданья сжали ей глотку, и она с изумлением увидела, как две слезы капнули с ее подбородка на ее шитво, и она быстро утерла щеки, подбородок, шею – а вдруг он войдет и заметит, что она плакала: она, миг назад такая счастливая.
«Но ведь от счастья тоже плачут», - слепо, растерянно подумала она, и уколола иголкой палец, и пососала его, как дитя.
Он вел ее в баню за руку по протоптанной им самим в густых снегах тропе.
А она несла, прижимая к боку, два таза, в тазах – мочалки, мыло, сменное белье.
Они дошли до бани, черной, приземистой каракатицы, сильно пригнулись, чтобы войти – такая низенькая была дверь, - и там тоже не разгибались, раздеваясь; Степан рванул еще одну дверь, и на них обоих пахнуло горячим, слепым густым, как сметана, паром, и, хохоча, он втянул Марию за руку из предбанника – в самое баню, а она верещала, обжигаясь паром и жаром. Степан рукавичкой подцепил раскаленный ковш, плеснул кипятком на широкие половицы. Мария подобрала ноги под себя, взбросила их на лавку.
– А-а-а-ах! Осторожней! Ошпаришь!
– Грейся, Машка, грейся... Отогревайся...
«Он любит меня, любит», - билось в висках.
Степан наливал в тазы и горячей, и холодной воды – из шайки. Подкладывал в печку дровишек. Мария намыливала мочалку, крепко, безжалостно терла ему спину – до розовости, до алости маковой.
– Как тебе?! Здорово?!
– Бесподобно!
– Будешь чистая, скрипеть кожа будет... Сиять!..
Они терли, терли мочалками друг друга. Степан встал на колени и прижался губами к низу Марииного живота. Мария ударила его рукой по затылку, легонько.
– Не балуй, конь...
– Но тебе же хорошо!
Принес веник. Старый, уже ржавый, березовый. Листья с него падали недуром, изветшал уже насмерть, но все же Степан упрямо запарил его в тазу.
– Давай тебя похлещу!
Мария послушно, как корова, подставила Степану спину.
Когда он, плеснув в камеленку кипятка, в слепом обжигающем пару лупил Марию веником по спине, по бокам, по розовому животу, она подумала: бей, бей, может, все грехи мои из меня выбьешь, а грех ли то, что я Федора тоже люблю? И тебя люблю, и Федора люблю?
Он бросил веник в таз. Встал с ней вровень.
Обнял ее. Взял руками ее груди, как спелые, тяжелые райские плоды. Их лица соприкасались. Губы улыбались.
– Так хорошо больше не будет никогда, - сказал.
И у нее сердце рухнуло куда-то вниз. Как с обрыва.
– Налей мне в таз горячей воды, - шепнула она. Пот, пар, вода, мыло катились по ее соленому лицу. - Я помоюсь. Обмоюсь. В последний раз.
А назавтра они пошли по гостям. С гостинцами.
Сперва они пошли к бабе Шуре.
Баба Шура жила напротив. Степан купил ей в магазине огромный пряник. «Она пряники любит, - сказал Марии. - Она с Санькой Овчинниковым живет».
Постучали; за дверью зашаркали шаги, и скрипучий голос протянул длинно, тоскливо: «Кто-о-о-о та-а-а-ам?»
– Открой, баба Шура! - возвысил голос Степан. - Это Степа!
Мария глядела на столетнюю бабку с лицом жеваным, морщеным неистово, сумасшедше, как кора старого-престарого степного дуба. Бабка сощурилась на Степана, на нее – и широко, резко распахнула кривую дверь.
– Гошти дороги-и-и-ия! Пожа-а-алте!
Вошли. За стол сели. Степан выложил из торбы подарочек.
– Знает, шволочь, што я прянишки ошобо люблю-у-у-у... Уважил штаруху...
Баба Шура чмокнула Степана в бритый затылок.
– Што броешшя, как лышый? Модно, што ль, голым? Или это штоба не причашывацца по утрам?.. Шашка! Шашка-а-а-а! - вдруг завопила. - Вштавай, горюшко! Гоштюшки у наш!
Из горницы выполз, нога за ногу, заспанный, с похмелья, парень. Зевнул, дохнул перегаром. Кудлатый, на лицо смазливый. Волосы русые, висят, как у девицы, до плеч, глаза голубые, пустые, плавающие еще в реках пьяного сна.
– Что?.. Кто?.. - Увидел чужих, приосанился, космы пригладил. Всмотрелся. Узнал Степана. - А, да Степка это! - Шагнул вперед, рукой встретил твердую руку Степана. - Давай! Со встречей! Бабка!.. Ты это!.. Ну, шевелися...
Баба Шура проворно, невесть откуда, будто из воздуха, вынула темную зеленую, с отбитым горлышком, бутылку. Громко шлепнула на стол.
Сашка выставил стаканы. Трехлитровую банку с огурцами.
Мария смотрела, как в грязные, захватанные стаканы Сашка разливает пахучую, вонючую самогонку. «Эх ты, смердит как. Из чего гнали? Из опилок, что ли? И это надо – пить? В деревнях отличная самогонка, не бойся, не сдохнешь...»
– Со встречей! - повторил Сашка и встал за столом, и поднял высоко, над головой, стакан. Покосился на Марию. - Ты не робей, баба! У тебя мужик – что надо парень! Таких – поискать!
Мария поднесла стакан с самогоном к носу – и задохнулась.
Зелье обожгло глотку. Прожгло потроха насквозь.
Краем глаза Мария видела, как Степан, давясь, хохоча светлыми, как лед, глазами, заталкивает в рот соленый огурец.
Они сидели у бабы Шуры еще три часа, пока не выпили эту бутылку, и еще одну, и еще одну. Дошла очередь до соленых помидоров. Сашка отварил три больших, как футбольные мячи, картофелины. Мария развеселилась, разжарилась, самогон задурил ей голову, но она держала себя в руках, следила за собой, потому что Степан сказал – пойдем еще в одни гости, а потом – еще. Вечер длинный!
И она берегла себя для других гостеваний, чтобы не упиться так позорно и сразу.
Но пышным весельем налилась, распоясалась, разнуздалась; хохотала громко, без стеснения, гибко, затылком до шеи доставая, закидывала голову; молодела на глазах; пела песни вместе с бабой Шурой; стреляла глазами в угрюмого Сашку; хватала под столом Степана за колено, а он, смеясь, ее хватал, щипал, и повыше; и иконы, мерцающие по срубовым, закопченным, затянутым паутиной стенам, плыли перед ее глазами, как черные, груженные червонным золотом, медленные лодки.
– Вася! Отворяй!
Огромный, жестоко ободранный соперниками, блохастый черный кот ходил по плашкам палисадного забора.
Из избы послышалось:
– Открыто!
Они вошли. Кот вошел за ними следом. Мария чуть не упала через завернувшуюся рулетом половицу. Запахло знакомым, недавним: острым, сливовым, сладко-спиртовым духом самогона. В сенях, в коридорчике, повсюду стояли бочки, бочонки, ржавые емкости, канистры. И от них тоже пахло.
Они вошли в дом, и в их глаза впечатались уже темно-синие окна с красной небесной полосой в дикой дали – это уже настал вечер, и на село обрушился закат. За круглым, массивным дубовым столом сидела, подперев подбородок кулаками, полная, дородная старуха.
– Вася, здравствуй! - Степан почему-то поклонился старухе в пояс. - Это ж я, Степашка! Как живешь-можешь?
– Почему Вася? - спросила Мария тихонько. - Она же...
– Васса ее зовут, - просвистел Степан сквозь зубы. И – громко: - Ну, Вася, как ты тут?
– А што? - пожала плечами старуха, не сходя с места. Руки только от лица отняла. Рассматривала Марию и Степана придирчиво, будто товар выбирала на рынке. - Ништо мне не сделаицца. Самогонку варю, да продаю потихонечку. Ты сам-друг? Тя как звать-то? - оборотилась к Марии. - Ищо яму не родила ляльку?
Мария покраснела не хуже закатных окон. Степан больно сжал ее руку.
– Маша ее зовут, Вася, Маша, Маша, - повторил, как втолковал.
– Мамка-то твоя как там?
– Нет мамки, - жестко сказал Степан, глядя прямо в глаза дородной, как царица, старухи.
– Преставилася? А-а... - Вася медленно, тяжело двигая пухлой рукой, перекрестилась. - А тятька?
– Отец тоже умер.
Мария избегала смотреть Степану в лицо.
Он никогда не говорил ей о родителях.
А их у него, у молодого, оказывается, и не было уже.
«Сирота, сирота», - билось в ней.
– Што, выпьем за стречу? - просипела старуха-царица. Мария глядела на ее седые, кольцами, еще густые волосы, шапкой обнимавшие большую, как у стельной коровы, голову.
– Можно, - так же жестко ответил Степан.
Об его колено потерся блохастой башкой, умоляюще мяукнул ободранный кот.
У Вассы Арсеньевой они просидели поменьше, чем у бабы Шуры: с часок. Вася угощала их самогоном, и он пах точно так же, как и у бабы Шуры. «Из одного котла», - подумала Мария, опрокидывая в рот стопку. Когда они уходили, Вася уже плохо сидела на стуле. Все время валилась набок, как ватная баба с чайника, и Степан ее нежно усаживал обратно. Локти ей на стол положил, чтобы на пол не упала.
На улице уже было густо-сине, темно, но небо не было черным – оно навалилось синей ваксой, игристой, безумной кучей живых, шевелящихся звезд, и белая парча снега вольно расстилалась под звездной резкой игрой, ударяла цветными, режущими лучами.
Мария и Степан, уже нетвердо, шатко, пробирались по тропинкам меж сугробов еще в одну избу.
Избенка, приземистая, повалившаяся на один бок, как пьяная Вася, стояла на самом краю улицы. Дальше был забор из длинных жердей – и начинался лес.
Степан не стучал – толкнул дверь.
– Тут все время открыто... Дядь Коля! Дядь Коля! - заблажил, топая громко, отряхивая снег с брючин, с ботинок. Зажег свет. Тусклая лампа под потолком загорелась, как кошачий глаз. - Дядь Коля, где ты! - Оглянулся на Марию. - Если умер, лежит где – не ори. Будем хоронить. Дядь Коля-а-а-а!
Из горницы послышалось мучительное кряхтение.
– Живой...
Степан вынес дядю Колю из горницы на руках, как ребенка.
– Вот, Машенька!.. дядь Коля это... - Степан уже вез, плел пьяным языком. - Это мой дядь Коля, солнышко мое-о-о-о... Мы в детстве с ним... за к-к-к-карасями на Святое озеро ходили... И за язями – на тот берег Суры – на лодочке плавали... А л-л-л-лодочка однажды перевернулась, ха-ха-а-а-а!.. и мы – бултых!.. и дядь Коля меня спас, спа-а-а-ас... Машенька, ты там это... погляди чего к столу, пошукай, а?.. сама, как хозяйка... Видишь, он уже совсем никакой...
Степан, с дядей Колей на руках, сел на диван.
– Дядь Коля... Что с тобой?..
Мария глядела – на глазах сизо плыли, мертво мерцали два бельма. На обоих.
– Дак ить... - Дядя Коля швыркнул носом. Его лысина блестела в скудных лучах тусклой пыльной лампы. - Дак неудача... Ослеп я, милай... Совсем ослеп... На операцыю лег... которакту вырезать... на обоих глазах которакта была... ну и што?.. Лег в клинику... бесплатно лег... на операцыю пошлепал, потом на другую... Вставили мне!..
– Вставили?.. - смеялся сквозь пьяные слезы Степан.
– Ну дак я и говорю – вставили... Врали – мягкую линзу вставят... а воткнули – жесткую... бесплатно дак!.. Глаз поранили... и другой тоже захворал... воспалился... Дешевую, суки, вставили!.. А платил-то я – за дорогую!.. Пеньсию копил... Не пил, не ел... Вот...
Дядя Коля прижался лысой головенкой к плечу Степана. Так сидели они: бритый и лысый, с голыми головами. И Марии показалось – мерзнут, мерзнут они, и сейчас замерзнут навек здесь, в снегах.
Холодно было у дяди Коли в избе.
Пьяно встала со стула Мария. Схватила с сундука одеяло. Накрыла одеялом сидящих, обнявшихся, как шерстяным, дырявым крылом.
– А что ж делаешь-то тут, один, слепой, дядь Коля?..
– Да ништо... Што мне... Санька Овчинников заходит... Хлеба приташшит, лука... Воды нанесет из колодца... Одному-то мне воды – надолго хватат... Ну што?.. И самогоночки, конешно, под мышкой притартат... Я яму, Саньке, пеньсию отдаю... Я денег не видю – зачем мне они?.. По кой ляд?.. Я – и без денег проживу... И умру без них...
Мария села перед ними на корточки. Руки им обоим гладила. По лицу ее слезы текли.
– Ктой-то тут ищо... Трогат мяня... Дышит...
– Это жена моя... тайная.
– Тайная жона?.. А как это – тайная?.. Таперь и такие есть?..
– Все теперь есть, дядь Коля, все. Давай Маша тебя покормит, а?.. А я воды тебе нанесу.
Степан пошел за водой к колонке – наполнил ведра, обратно побрел – и упал, растянулся в сугробах. Вода вылилась вся. Вернулся, ведрами звеня, громко, хулигански, под звездами, на просторе, матерясь. Снова долго стоял у колонки, на рычаг нажав; ведра переполнялись, вода переливалась на снег, через край, он стоял недвижно, смеялся беззвучно, глядел на серебряные водопады. Мария варила дяде Коле суп из двух картошек, луковицы, ложки подсолнечного масла и кусочка старого сала, найденного в грязном, как ковш экскаватора, холодильнике. У дяди Коли была газовая плита, от нее шел резиновый шланг к газовому баллону. Значит, он был еще богатый.
Еще чуть-чуть богатый: газ у него еще был.
Они вернулись к себе в избу уже заполночь. Небо сделалось страшно-черным, прозрачно-высоким, торжественным, как последний приговор. Звезды горели колко и жестко, и от них в нежно-белую шкуру зимней земли летели узкие острые лучи, как ангельские копья. Стояла такая тишина – уши ломило. Мария увидела, как по опушке ближнего леса бежит, высоко вздергивая задние лапы, белый заяц. Она засмеялась, крикнула:
– Заяц!.. Беляк...
Степан брел, подхватив ее под мышку. Дышал в нее самогонкой.
– Это, Машка, мои старики... Жизнь пробежала у них... как вот заяц – по опушке...
Целовались пьяно, вкусно под иглистым, в потусторонних жемчугах-алмазах, смоляным небом.
– Идем... А у нас – тепло... Еще не остыло...
– А тут... все так пьют?..
– Все, Машка... И – молодые тоже...
– Не верю...
– Молодые – рвут когти отсюда... Уезжают... Навсегда... Я тебе завтра – и молодых покажу...
И он показал ей назавтра василевских молодых.
Пришли на дискотеку в клуб. Не клуб – дощатый, покрашенный синей краской сарай. Огромный, как старая армейская конюшня, зал, воняет мочой, табаком. Фикусы в кадках вдоль стен. Окурки на полу. Музыка гремит дико. Темень, во тьме просверкивают вспышки – красные, синие. Подростки скачут, корчатся, взбрасывают руки, изгибают ноги. В углах – девчонки сидят верхом на парнях, сосут из бутылок пиво. Визги, смех, ругань.
Мария постояла в дверях клуба. Степан курил, отведя руку из двери – наружу, в снег, мороз и чистоту.
– И вот так тут они все время? Вечерами?
– А что тут им еще делать?
Он затянулся и выбросил на снег сигарету.
И было еще одно завтра.
- А теперь пойдем в дом отдыха. В брошенный, - уточнил он.
День был солнечный, все сверкало до боли в зрачках.
Они пошли гулять по деревне, как настоящие супруги – под ручку. Снова Мария поразилась зимнему безлюдью. Хотя все работало: и магазин, и школа, и поссовет, и даже общественная баня, была тут и такая, на шесть персон, - но на улицах – ни души.
– Мы тут одни... как после атомной войны...
– Дыши, дыши воздухом, Машка... В городе будет совсем другая жизнь...
Ворота заброшенного дома отдыха, из ржавой жести, замели сугробы. Степан ногами отгреб снег, нажал с силой, ворота подались, раскрылись, в жалкую щелку впустили их.
Белизна... чистота. И тишина, тишь такая, что кажется – ты вернулся в начало мира. Степан насобирал веток, щепок, поманил Марию к торчавшей в снегу резной беседке.
– Здесь костерок разожжем...
Она глядела, как он умело, сноровисто разжигает в снегу огонь. Домиком щепки кладет. Шатром ветки наваливает. И бумажку для разжига в кармане отыскал; и зажигалку в ветки толкает. Раздувает! Щеки круглые, мячами... Мария сняла варежки и подняла голые руки над пламенем.
– Огонь, огонь... А это все... - Она повела головой. - Все брошено, да?..
– Все уже купили, - голос Степана сделался стальным. Она боялась этого его голоса. - Богачи будут строить здесь дворцы Приама. Для себя. И повесят табличку – вход воспрещен, штраф миллион рублей, осторожно, пять злых собак. Ротвейлеров. - Он сплюнул в снег. - Гады.
– Ты так их ненавидишь? Богатых? - тихо спросила Мария.
– Да. Ненавижу. Потому что они, - он кивнул головой на дальние крыши села, - все бедные. Потому что мы с тобой – бедные. И вся страна – такие вот бедные. А их не так много. Но они – богатые.
– Но ведь равенства не будет никогда!
Мария все держала руки над огнем.
Поглядела на Степана, и ее поразила злоба, покорежившая его лицо.
– Может быть. Да. Не будет. Но должна быть правда. И справедливость.
– Должна быть... любовь...
– И любви тоже нет. - Он сорвал шапку, рьяно потер ею бритую голову. - Нет! Ее нет потому, что все бегут за деньгами! И кто-то до них - добегает! А кто добежал – для тех любви уже не существует. Все! Умерла. Это ты понимаешь?!
Костерок горел, красные сполохи лизали и целовали искристый алмазный снег. Ветки потрескивали. Далеко, за Сурой, раздался выстрел: охотник выстрелил. Зверя, может быть, убил. Себе на еду, семье.
Один живой убивает другого живого, чтобы выжить. Вот она, вся справедливость. Вся правда.
– Я все понимаю, - сказала Мария.
Лед реки сверкал под высоко стоящим белым солнцем, как расшитая серебром, широкая, праздничная, пасхальная риза священника.
– Я к бабе Шуре. Хлебца им с Сашкой купил свежего...
Степан ушел. Мария села к окну и поскребла ногтем морозный узор на стекле.
Под подошвами протяжно, тонко скрипел снег. Степан подошел к дому бабы Шуры. Вечерело, а у них света в окнах не было. Дверь замкнута была. Степан постучал, сначала раз, другой, потом стал стучать без перерыва, как молотком колотить. Дверь молчала. Дом молчал.
Он почуял неладное. Разбежался, ногой выбил ветхую дверь. В нос ему ударил сладкий запах. Это не был запах самогона. Дверь в гостиную отворена была. Он вошел, принюхиваясь, втягивая воздух, как волк. Увидел их – обоих: баба Шура лежала лицом вниз на сундуке, рука ее свисала до полу, как гиря ходиков. Сашка валялся на полу, лицом вверх. Его красивое лицо было все синее. Язык торчал между оскаленными зубами. Длинные, как у девушки, русые волосы прилипли к щекам, на подбородке, на половицах под головой засохла блевотина.
«Упились, - бормотнул Степан, - упились все-таки...»
Позвал старушек соседских – читать над покойниками Псалтырь, обмывать.
Старушки сидели денно и нощно, попеременно читали псалмы, жгли бесконечную свечку. Мария все вымыла в избе, прибралась, как могла.
Хоронили на третий день, как и положено. Гроб у бабы Шуры был заготовлен заранее, стоял в сарае, где дрова. Гроб Сашке заказали у сельского знаменитого плотника, дяди Сереги Полуэктова. Он гроб сделал в момент, срубил, сосновый. Денег на гроб заняли у слепого дяди Коли.
На василевское кладбище гробы везли на четырех детских санках, связанных веревками. Это Степан придумал, чтобы в пожарке машину не просить. Везли медленно, шли за гробами еще медленнее. Ноги вязли в наметенном снегу. Старушки плакали, тонко подвывали. За гробами шла и дородная Вася-царица, сморкалась в огромный, как мешок, платок.
Могильщика на кладбище не было: сказали, парень запил. Степан разделся до рубахи, сам взял лопату, поплевал на руки. Сначала кидал снег, потом долго, целую вечность, рыл твердую, прокаленную морозом землю. Земля тут была черноземная, мягкая, хорошо, не подзол.
Мария сама помогала ему опускать в ямы гробы, на полотенцах – старухи умные догадались полотенца прихватить. Тонкими голосишками на морозе старухи пели отходные, церковные песнопения. Солнце играло в тонких, бьющихся на легком ветру голых ветках берез. Мария, надрываясь, держала за хвосты полотенце, Степан опускал гроб с телом Сашки. Бабу Шуру уже опустили. Мария взяла ком земли, кинула сначала на крышку бабе Шуре, потом – в яму Саньке. Старухи тонко, как котята, заплакали, забормотали. Солнце ослепляло, било прямо в глаза. Степан стал забрасывать гробы землей вперемешку со снегом, закапывать.
Мария вытерла варежкой вспотевшее, горящее лицо.
У нее не было никаких слез. Напротив, странная радость была – стоять на морозе на кладбище, смотреть на сельские похороны, на разрушенную деревянную церковку глядеть: церковь подожгли с одного бока, и она была наполовину желтая, наполовину – черная. «Тоже пожарище... как у меня. Везде огонь! Все жгут. Жгут нашу жизнь! Наши книги! Наши дома! Наше святое. Все – жгут! А сожгут – свое построят. Богатое. Чужое. И мы – порог их не переступим. Так на задворках и помрем. Сопьемся... как баба Шура и Сашка... и помрем. Степан прав. Надо восставать. Но как? И – кто?! Ах, как птицы поют! Весну чуют!»
Степан кончил закапывать. Бросил лопату. Обтер руки о штанины. На корточки присел, как лагерник. Закурил.
Птицы пели в ветвях берез, под солнцем, над их головами.
Связанные веревкой детские санки перевернулись кверху полозьями. Будто брюхом кверху валялись мертвые зверята.
И старухи плакали и пели.
На поминках Степан пил самогон осторожно, скупо. Мария вынимала из банок, ловила вилкой, пальцами огурцы, помидоры, а они вырывались, ускользали из пальцев, как живые. Кроме вареной картошки, огурцов и помидоров соленых, ну, и самогона, разумеется, на поминальном столе еще валялись, на битых, щербатых тарелках, пирожки с капустой и пирожки с картошкой – из сельмага, старухи сами печь не стали, готовые купили. Еще купили дешевые сосиски. Рис сварили, изюм туда запустили: сладкая кутья получилась, славная.
Все было честь по чести.
Как надо, бабу Шуру и Саньку проводили.
Когда они стали собираться домой, в город, Мария все ходила по избе и гладила, гладила стены, печку, столы, горшки, чугуны, ветхие занавески, как живых. Все тут было живое, сирое, родное, милое до слез. Брошенное. Как брошенный кутенок или брошенное дитя. На дороге... под снегом...
Как мы оставим этот дом, как уедем, думала она. Ведь он тут будет стоять один... совсем один. Опять. Долгое время. Может быть, годы. Степан говорит – детей сюда будет возить, когда родятся они. А когда они родятся? С женой-то он уже долго живет. А может... У нее стало холодно под сердцем. Может, он врет все ей, и у него уже есть дети? Есть? И они и правда сюда летом приезжают?
Она украдкой оглядела избу. Не завалялись ли где игрушки. Нет, не пахло детишками тут. А то – хоть пеленку старую на кухне она отыскала бы. Хоть – юлу под столом, ваньку-встаньку за печкой.
Степан подошел к ней сзади. Она не услышала. Обнял ее, и она ахнула.
– Ты... Ну... Что пугаешь...
– Я такой страшный?
Она взяла его руку, ладонь его прижала, прислонила к своему лицу. Нюхала табачный запах мужской ладони.
– Ты – мой...
Хотела сказать: «родной» - и не смогла.
Лицо Федора всплыло перед ней из тьмы, из света. Из солнца заоконного. Из могучих снегов.
– Ну? Отдохнула? - Поцеловал ее в шею. - Понравилось тут у меня?
– Степка, - обернулась быстро. Закинула руки ему за бычью выю. - Спрашиваешь!
– Ты прости, что эти тут померли при тебе...
– Да нет. Судьба у них такая.
– Я не хотел, чтобы ты хоронила...
– Может, это хорошо, что мы с тобой были как раз тут и их похоронили.
– Давай. Собирайся.
– Я уже собралась.
Они сели, посидели, по обычаю, перед дорогой. Степан держал в руках тяжелый амбарный замок. Вертел ключ.
– Машка... – Охрип внезапно. - Я должен тебе сказать...
Ее обдало изнутри ледяной водой.
И замерзло все сразу внутри.
– Говори.
– Я скоро буду...
– Ты бросишь меня?
Это сказала не она – ее губы, от нее отдельно.
– Дура, - он криво усмехнулся, и она увидела: у него отросли над губой темные усы. - Дура, дура, ду-у-у-ура...
Отвернулся.
– Ну! Говори! Что ж замолчал!
Но легче стало на душе, легче.
Встал он. И она встала.
– Нет. Не скажу. Не время еще. Идем.
Подхватил сумку; Мария тихо взяла пакет с дорожной провизией. Две сосиски, булка, два пирожка с капустой, два соленых огурца. Из той банки, поминальной, Саньки Овчинникова.
Спускались по крутой тропе к реке. «Наши вешки, вон, вижу!» - показала на кустики с флажками Мария. Степан скользил по тропе впереди, крепко поддерживал Марию за руку.
И тут вдруг из кустов раздался стон.
- А-а-а-ах… А-а-а-а-а-м-м-м!..
Степан выпустил руку Марии.
- Стой, Машка… Кто-то там…
Сунулся в кусты. Когда повернулся к Марии – лицо было растерянное, совсем детское.
- Маша… там… девчонка лежит… живот такой большой…
Мария поняла сразу.
- Рожает, - сказала, как отрубила.
Уже ломилась сквозь кусты.
На снегу, животом вверх, лежала девушка, да нет, верно Степан сказал, девочка. Пузо у нее на нос лезло, такое огромное. Девчонка корчилась, подбирала колени повыше к животу. Хватала крючьями красных пальцев снег. Он таял и тек у нее из-под пальцев водой. Или – водкой.
- А-а-а-а-ах!..
- Тихо, не ахай, - нарочито грубо сказала девчонке Мария. – Что вот теперь с тобой делать?
Она присела и подсунула руки под спину роженицы.
- Идти – можешь?
- Не-е-е-ет… Больно-о-о-о-о!..
- Плевать на твою боль. Пересиль себя. Вставай!
Мария потянула девчонку за руку. Степан приподнял ее сзади.
- Мы тебя через Суру переведем, в райцентр, там – больница…
- А-а-а-а-а!..
- Степа, бери сумки, я ее поведу…
Он сплюнул. Девчонка стонала уже без перерыва.
- Нет. Сама бери. Я ее – понесу.
И он взял брюхатую девчонку на руки и понес, скользя в снегу, чуть не падая, оступаясь.
Теперь Мария шла по косогору впереди, а он, с роженицей на руках, - сзади.
Когда они спустились к Суре и уже шли по льду, у девчонки вдруг побелело, не хуже снега, закинутое лицо. Степан побежал быстрее, обогнал Марию.
– Скорей! – крикнул он, и парок вылетел, как душа, из его рта. – Быстрей, Машка, шевели ножками! Она сознание потеряла!
Они добежали до середины Суры. Мария не поняла, как все случилось. Раздался легкий, почти неслышный хруст. Трещина зачернела под ногами Степана. И Мария, как в страшном сне, видела, - медленно, медленно, медленнее не бывает, Степан стал оседать, куда-то исчезать, - и она с трудом осознала, что он, вот сейчас, в этот миг, проваливается под лед. И сейчас – вот сейчас – утонет.
Лицо Степана перекосилось от натуги. Страшным усилием он толкнул девчонку вперед от себя, дальше, еще дальше. Она откатилась по льду. Ее руки, ноги не двигались. Белое лицо застыло. Только громадный живот шевелился, бугрился. Живот был живой. А она…
Руки Степана хватались за острые зазубрины, разломы льда.
Мария стояла как во сне.
- Машка! – дико закричал Степан. Глаза его вылезали из орбит, как у рака. – Машка! Что стоишь!
Она сделала шаг к Степану.
- Нет! – хрипло, натужно завопил. – Не подходи близко! А то тоже провалишься!
Она начала дрожать. Мелко, противно.
- Платок! Развяжи шаль! Брось мне конец!
Под ее ногами тоже разбегались, змеились мелкие трещины.
Негнущимися руками она развязала узел шали. Сдернула с головы.
Швырнула шаль Степану.
- Держи-и-и-и…
Он поймал конец шали, когда уже уходил под воду с головой.
- Ляг на лед брюхом! – отфыркиваясь, завопил Степан. – Ложись!
Она легла. Крепко конец шали держала.
- Тяни-и-и-и!
Она отползала назад и тянула, тянула.
- Тяни-и-и-и-и…
Он карабкался из полыньи. Наваливался грудью – а лед опять расползался, трещал. Мария ползла, тянула. Степан изловчился, нашел место, где лед покрепче схватился; осторожно, чувствуя, как уже немеют в ледяной воде ноги, выполз на толстый, уже твердый как стальной сплав, лед. Дышал тяжело, часто, хрипло. Мария все вцеплялась в шаль побелевшими пальцами.
- Все… Ползи на пузе дальше… К ней… Туда… На ноги – не вставай…
Они оба поползли по льду, как две рыбины, белуги.
- Ноги твои как…
- Никак! Хоть бы ты догадалась самогонки бутылку захватить… Сейчас растерся бы…
- Извини…
Солнце круглым шаром стылого чувашского масла каталось за тучами.
Они отползли дальше, еще дальше, за рожающую девчонку. Шубенка на животе роженицы расстегнулась – или это Степан, пока нес ее, расстегнул?
Передохнули. Степан постарался встать. Сначала встал на колени. На морозе живо, мгновенно обледенели мокрые ботинки, портки, куртка. Он, морщась, встал на четвереньки, как собака. Вот разогнул спину. Вот – уже стоит, стоит во весь рост на льду.
– Не бойся! Что глаза круглые сделала... Здесь – не провалюсь! Здесь лед толще ее, - кивнул на девчонку, - живота...
– Степка! - Мария закусила губу. - Степочка... Как же мы...
– Никак! Вперед!
– Она же... лежит...
– Я ее понесу!
– Мы вместе...
Они оба наклонились над девчонкой. Степан подхватил ее под мышки. Мария – под колени. Оглянулась на их дорожную сумку, на пакет с пирожками и огурцами.
– Оставь все! - дико крикнул Степан. - Вперед!
И они двинулись вперед.
Не прошли и километра, как девчонкин живот заворохался бешено, и она, в бессознании, судорожно забилась на руках у Степана. Он шел, еле ворочая заледенелыми ногами.
– Ч-ч-ч-черт... Не могу идти...
Он встал на колени и бессильно положил девчонку на лед. Мария почувствовала, что надо делать. Сорвала, содрала с девчонки шубку. Задрала ей юбку, стала рвать, прямо на ней, колготки, трусы.
– Что ты делаешь!.. Машка!.. Она же...
Мария руками раздвинула колени лежащей на льду девчонке.
И Степан понял.
Ребенок шел на свет, слава Богу, головкой. Мария оглаживала мокрое темечко. Губы ее шевелились, будто она молилась.
И тут глаза девчонки открылись. Она пришла в себя.
– Ой-ей-ей-о-о-о-ой!..
– Тужься! - заорала Мария. - Давай! Рожаешь!
Она наклонилась над ее лицом, повернутым к высокому, в бешено мчащихся тучах, небу с белым глазом морозного солнца, и ахнула – такими бездонными, небесными, потусторонними, неземными были, сияли, нездешне переливались смертным перламутром ее широко распахнутые, чуть, по-чувашски, раскосые глаза.
Плоть, живая плоть и кровь... Лезет, борется, хочет жить...
Еще – без духа...
Нет! Нет! Есть в красном тельце дух! Есть!
Иначе – все – бессмысленно... и бесповоротно.
Мария протянула руки. Живая, горячая на морозе, скользко-речная, рыбья тяжесть выпрастывалась наружу, билась, вот уже ложится, легла уже ей на покрытые цыпками, трясущиеся руки. Вот он! Ребенок. Человек...
Девчонка повернула голову, ее щека прижалась, приварилась ко льду.
Она опять потеряла сознание.
Ребенок на руках у Марии вдохнул мороз – и запищал!
Степан стоял на коленях на льду.
Кажется, он плакал.
– Мы умрем тут, - сказала Мария.
Она уже перерезала дрожащими руками, карманным ножом Степана, пуповину. Замотала ниткой, выдернутой из старого своего свитера. Она держала на руках ребенка, закутанного в шубу. Он нежно, зверячье кряхтел, попискивал.
Девчонка, задрав к небу голову, без чувств, лежала, разбросав руки и ноги по стально искрящемуся льду.
Степан лежал на боку, подобрав застывшие ноги к животу. Его брючины сверкали под солнцем ледяной коркой. «Лежит, как младенец в утробе», - подумала Мария.
– Нет! Нет... Что ты мелешь!.. - Она видела – он задыхался, замерзал. Пойдет же кто-нибудь на тот берег! Увидит кто-нибудь...
Зимнее солнце уже алело, катилось на закат.
Мария прижала лицо к густо-красному личику ребенка, он сморщил чечевичный носик и чихнул. Она грела его дыханием. Потом завернула кудрявый, грязный рукав шубы, положила ему на мордочку: чтобы не замерз, грелся внутри мехового кокона.
– Маленький... Милый... Родился... Не на земле, не в воде, не в воздухе... На льду... На реке... И никто не расскажет тебе...
Она бросила взгляд на девчонку. Та не шевелилась.
И не дышала.
Или – все-таки – еще дышала?!
Степан подполз к девчонке, подтянулся на локтях. Прислонил щеку к ее носу, рту.
– Она не дышит! - крикнул он. - Не дыши-и-и-ит...
Рыдал.
Оборвал рыданья.
Уткнулся лбом в лед.
Мария согнулась над ребенком, укутанным в шубу, нахохлилась над ним, как мать-наседка. Она тоже замерзала. Ей почудилось: да, она наседка, птица, и вместо рукавов у нее – крылья, и вместо костей рабочих рук – легкие, невесомые, птичьи косточки, полные воздуха и ветра.
Она закрыла глаза. Сильно хотелось спать.
– Не спать, - сказала она себе белыми губами. - Не спать, слышишь, не спать!
Вечерело быстро и страшно.
Когда над ледяным платом Суры в красно-буром небе уже забились, замерцали первые звезды, послышался шум мотора. По льду медленно, осторожно, тревожно шла машина.
Мария смутно, сквозь пелену, слышала тарахтенье мотора. Слышала, как дико, захлебываясь слюной, ругался шофер, выскочив из кабины на лед. Чувствовала: вот чьи-то руки берут ее, вынимают у нее из сложенных крыльев ребенка, вот несут ее куда-то – куда? А, в тепло... в запах бензина, кладут, как мерзлое бревно, на воняющую бензином и овечьей шерстью кожу... Гладят, бьют по щекам, что-то стеклянное, ледяное суют в рот... Тьфу!.. горечь... А, глотай, глотай, это же водка...
Водка бывает или хорошей, или... очень хорошей... плохой – никогда не бывает...
«А где Степан? Где девочка?» - подумала она еще, прежде чем провалиться в вихренье снега, в ночную метель.
ЧУДО СРЕДИ ТЬМЫ: И ЕСТЬ, И БУДЕТ
МИРОТОЧИВАЯ
...многозубчатая, сверкающая темным, будто на рыбацком костре подкопченным, золотом корона над Ее чистым, крутым лбом.
Крутолобая. Как бычок.
С головокружительно-безумными, священно-бездонными, налитыми растопленным зимним льдом, громадными, как две синих ладьи, глазами. Синие, опаловые белки выпуклы, как очищенные Пасхальные яйца; темно-коричневые радужки внезапно отсвечивают морозно-голубым, наивно-детским аквамарином.
Драгоценное лицо. Переливается, вздрагивает, светится.
Она – драгоценность Земли; и Земля повторяет Ее тысячу, миллион, десятки миллионов раз; вот повторила и теперь.
Щеки округлые, и чуть выпирают, смугло торчат южные скулы. Слегка раскоса, будто Она – татарка. Может, Она – татарка?
Может, Она – абиссинка, ассирийка, армянка, грузинка, таджичка, степнячка, мулатка, креолка, эта смуглая скорбная еврейка с глазами огромными, как два глиняных блюдца, только вынутых, после обжига, из печи?
Рот. Этот скорбный рот. Рот – тоже драгоценность. Персы воспевали рубиновый, гранатовый рот; пели о женских устах, что как лепестки роз. Здесь драгоценность великой скорби, упрятанная в шкатулку вечной, неизбывной радости.
Да! Радости. Ибо Она радуется.
Ибо невозможно никогда и никому победить, измять радость Ее.
«Хайре!» - кричат Ее глаза. Хайре, шепчет ее печальный, нежный рот. Слишком нежный для убивающего мира.
ДЛЯ ЖЕСТОКАГО МIРА, ПОГРЯЗШАГО ВЪ УБИЙСТВАХЪ И УЖАСАХЪ, ВЪ ШОПОТЕ ДIАВОЛА.
Хайре, гелиайне... Кирие элеисон...
Что спускается на Ее чистый, крутой и смуглый лоб с обода короны?
Посреди Ее лба, между бровей, светится прозрачный, висящий на золотой, почти невидимой цепочке, весело-искристый камень. Искусно ограненный самоцвет.
Самоцветы – глаза Земли.
Прозрачный камень на Ее лбу внимательно, спокойно смотрит в мир.
В ШИРОКIЙ И БЕЗУМНЫЙ МIРЪ, ИСПОЛНЕННЫЙ ГРЕХА.
Внимательно, спокойно, ясно, твердо, нежно.
Оба Ее глаза смотрят; и самоцвет сторожко, огненно глядит.
О, да Ее щеки тоже глядят! И рот глядит, дрожит, как алый глаз.
И каждая ноздря, дрожа, глядит. Вдыхает скорбь и ужас. А выдыхает аромат и чистоту.
Углы Ее губ приподнимаются. Это улыбка. Она – улыбается.
Она держит улыбку на лице, как держат в ладонях маленькую птицу.
И вот-вот отпустят.
И уже отпускают: лети!
Но птица не улетает. Не хочет улетать.
Птица знает: Ее нельзя покидать. У Нее будет большое, невыносимое горе.
И потом – такая же великая, необъятная, как небо, невыносимая радость.
Птица хочет навсегда остаться с Ней. Ее утешить.
Прочирикать Ей: я любовь, я с Тобой.
Нет, это Ее глаза как птицы! Они летят впереди Ее лица.
Они летят, плывут, живут и умирают.
И умирая – воскресают.
И воскрешают.
Эти длинные аквамарины, эти темные, звездчатые сапфиры, эти долгие, налитые слезами боли и любви лодки – это они, они поднимают нас из мрака, со смертного ложа, вынимают, тонущих, из тьмы бушующего моря, из ревущего огня великого пожара; пылая впереди, в кромешной тьме, как два огня, два факела могучих, выводят из тюрьмы.
Засовы остаются висеть. Замки тюремные – тяжелеть.
А эта, вот эта рука протягивается – сияет – и пальцы светятся, как свечи, и ты берешь эту руку, как хлеб берут; и, как в хлеб, лицо, губы в нее погружаешь, и запах вдыхаешь.
И – ты сыт; свободен; и крепкая рука руку твою сжимает и тебя ведет.
По черному, узкому слепому коридору.
И вы – вдвоем – выходите на волю, на простор, в метель и ледяной воздух, в чистый ветер, в блеск полыньи, в звон ветвей обледенелых приречных, мертвых ракит.
Лицо Ее горит!
И ты глядишь в Ее лицо. И волосы Ее, густые, пахучие, как зимнее сено, вылетают, летят по ветру из-под горящей тяжелыми, красными и синими, как угли в печи, самоцветами Ее тяжелой золотой короны.
Корона Ее тяжела!
Но Она не снимет ее никогда
Ради тебя.
Ради свободы и радости твоей.
Она оборачивает лицо Свое к тебе, и ты глядишь в Ее лицо, и слепнешь от золотого, нежного света, брызгающего во все зимние стороны, в ночь зимнюю – маслом от голодной, бедной сковороды - от Ее щек, от Ее скул, от Ее лба, от Ее улыбки, от Ее глаз.
Глаза Ее, две серебряных, сверкающих синей, небесной, звездной чешуей, легко и быстро плывущих рыбы! В океане скорбей. В море горя. В людском бездонном, темном, безумном море.
Солнце – лицо Ее!
Счастье – лицо Ее!
Ты падаешь коленями в жесткий снег, в ледяной наст.
Ты шепчешь: любовь – лицо Твое.
И слышит Она тебя, и улыбается тебе.
И в улыбке блестят сквозь алые, вздрагивающие губы перламутровые зубы Ее; жемчужины их катятся, рвется тонкая нить, и, о чудо, катятся они не вниз, а вверх, и вот уже все небо, мрачно-синее ночное небо – ее звездная, счастливая улыбка.
Всеми звездами мира улыбается Она тебе.
И рыбы звезд играют и прыгают, танцуют вокруг Ее сияющей головы, над ее окутанными горящей, как хвост павлиний, златотканой парчой, круглыми плечами; вокруг тонкой, горделиво-прямой шеи Ее, и бусами небесными серебряные, алмазные рыбы обвивают шею Ее, и ложатся на часто дышащую грудь Ее сверкающим небесным ожерельем.
И метель набрасывает на Нее меховую, драгоценную, белую шубу свою.
Горит, мерцает под Луной, под звездами парча. Горят глаза. Горят святые ладони. Горят ступни, смертный снег прожигая.
А, да Она – босая!
Господи, да босая же Она...
Встать на колени. Поцеловать тот снег, что Она стопами прожгла. Поцеловать ту холодную черную землю, что над бугре – над рекой – под жемчугами неба ночного – под Ее горящими ступнями – оттаяла.
Щекой – к Ее ноге голой – прижаться.
Как Ты, родная? Как же Ты босая, нежными, пылающими ступнями идешь по колючей, соленой земле?
По камням... по крови... по зазубринам льда... по грязи... по пылающим углям... по истлевшим костям... по смиренным кладбищам...
И над родильным ложем склоняешься.
И над одром умирающего в муках.
И – над короной на лбу Царя, которой венчают на Царство его.
И – над печью, в коей страдальцев сжигают живьем.
И – над скотом, что на бойню ведут, в чьих глазах стоит безумный крик, человечий!
Ты – надо всеми: в драгоценной короне, в парче золотой, и звезды в глазах Твоих, звезды – в ладонях, и синяя, алмазная Звезда на Твоей груди.
Что Ты держишь в руках?
Где Твой Младенец святой?
Что шепчешь Ты... я не слышу...
А, слышу: на Кресте... на Кресте...
А что же тогда в руках Твоих?
Подхожу ближе. Вижу: чаша.
И в чаше – темное, кровавое, сверкающее – плещется.
Кровь – святое Вино. А где же святой Хлеб?
«Ближе, ближе», - сияют синим снегом навстречу мне Твои длинные, звездные глаза.
Это мир, Весь Мир глядит на меня – из последней ночи – Твоими глазами.
И я слышу: святой Хлеб – это Я. Это лицо Мое. Наклонись. Прикоснись. Поцелуй. Вдохни. Стань Мною, а Я стану – тобою. Так замкнется звездный круг. Так Я снова зачну тебя, и снова рожу тебя, и снова погребу тебя, и снова воскрешу тебя. Я есмь круг миров, одна сверкающая, живая и теплая, воткнутая сканью в парчовый вечный лед, светлая драгоценность.
Меня не купишь. Не продашь. Не выдумаешь.
Я родила не только Бога твоего.
Я всех рождаю в жизнь. И в смерть. Всех.
Каждого.
И тебя – тоже.
Что течет по лику Твоему?! Какие светлые... как масло... пахучие... золотые, жемчужные капли...
Это миро.
Они текут не вниз, а вверх!
Да и ты, дитя Мое, не спускаешься вниз, а поднимаешься вверх.
Я в землю лягу!
Нет. Ты уйдешь в небо. Я обещаю тебе это.
Ее руки раскинуты. Прозрачный самоцвет во лбу пылает.
Льется тихий медовый свет от лица.
Льются по лицу мирровые слезы, заливают золотые щеки, золотой росой выступают на крутом, круглом лбу.
Слезами любви залиты, налиты до краев синие ладьи глаз.
Она уплывает. Она уплывает от меня в небо.
В россыпи зерен-звезд. В черное, звездное море.
Я слышу нежный запах. Миро светится.
Миро льется, катится, плачет, играет.
Играют изумруды, яхонты нешвенного хитона. Разводы, алые павлиньи хвосты вдоль по развышитой парче играют.
Играют рубины, сапфиры, жемчуга, турмалины, янтари, александриты, малахиты, сердолики на темном, обожженном, пожарищном золоте святой короны.
Прощай, Родная. Прощай, вся жизнь моя.
Заступница моя. Молельница моя. Небесная, упованная Царица моя.
Прощай, и когда придешь...
..а где же чаша со святым Вином?
Вот она – на снегу. На бугре над ледяной рекой.
Я наклоняюсь. Я в руки святую чашу беру.
Подношу к дрожащим губам.
Боже, Боже. Да это же сложенные чашей, живые, замерзшие, смертные руки мои. И в них растаявший снег. И земляная, коровия грязь. И чистые, с грязью земной смешанные, горькие, грозные, жалкие слезы мои.
ЕЕ ЦЕНА
– Я предлагаю вам большие деньги! Вы вдумайтесь! Вдумайтесь! Никакой президент... никакой король!.. никакой банкир – вам – за нее – столько денег – не даст! Я, только я одна – дам!
Эхо под сводами храма отдалось, размножило последний возглас: «Дам-м-м... Дам-м... ам-м-м-м... ам-м-м-м...»
Священник, с всклокоченными седыми волосами, белобородый, растерянный, стоял перед красивой заносчивой девушкой в изящной шапочке из светло-золотой норки и в светлом меховом манто. Под распахнутыми воротником манто, на нежной белой шее девушки, светилось в полутьме храма, в дрожащих сполохах свечных золотых, кровавых язычков жемчужное ожерелье. Жемчуг был крупный, и в свете свечей – розовый.
Будто его, каждую жемчужину, аккуратно в кровь окунули.
– Нет... Госпожа... хм-м-м-м... кха, кха!.. Я не могу... Это – святыня...
Священник мучительно закашлялся.
Девушка, надменно задирая и без того курносый носик, ждала, пока святой отец прокашляется.
– Нет. Вы не понимаете, - терпеливо, но уже с затаенным раздражением сказала она. - Вы! Не понимаете. Я предлагаю вам за икону...
– Я понял, сколько вы предлагаете. - Священник вскинул на красавицу печальные, круглые совиные глаза. Он перестал кашлять. Он старался не опустить перед красавицей глаз. Прямо в глаза ей смотреть, в красивые, прозрачные, холодные, как два аквамарина. - Я слышал. Я все понимаю. Я и вас понимаю! Но давайте закончим этот разговор. Бог вам...
Священник только хотел сказать «судья», как девушка вскинулась не хуже дикой кошки:
– И слышать не хочу! Мне эта икона – понравилась! И потом, по ней течет это, ну, это, как его?.. вон капельки... я нюхала! Мне нравится, как они пахнут!
По лицу священника ходили волны борьбы и ужаса.
– Как вы можете так о святом миро... вы...
Красавица протянула руку в лайковой перчатке к иконе, мерцающей драгоценным окладом в медовом, мятном полумраке собора. Пахло свечным нагаром. Вился усиками дым от гаснущих свечей. Вспыхивали рубины и сердолики на многозубчатой короне Богородицы.
Священнику показалось – сквозь лайку прорастают хищные, длинные, хватающие ногти.
Он бессознательно ринулся вперед – спасти, заслонить телом, грудью Чудотворную.
– Вы – дурак! - раздельно, громко сказала красавица.
«Ак... ак... ак...» - заметалось эхо под сводами.
Священник широко перекрестился.
– Господи, прости ей, ибо не ведает, что...
– Я? - Лицо красавицы пылало гневом. - Я – ведаю, что творю! Я хочу ее у вас – у храма – купить! Немыслимо дорого купить! Эту цену государство даст за все храмы Москвы, вместе взятые, если только патриархия будет эти храмы продавать! Ну вот захотела я ее купить! Ну вот понравилось мне, как по ней душистые капельки текут! Хочу! Хочу чудотворную икону – дома иметь!
Она повернула голову к иконе. Надменный, почти античный, твердо-золотой профиль чеканно высветился во тьме придела, где висела и мерцала икона.
– Вы все хотите иметь, - устало, тихо сказал священник. - Вы все хотите иметь, иметь, иметь. Это – торжество материального мира. А есть еще, госпожа, мир духовный. Там – ничего не продается и ничего не покупается. Там...
– Двести! - крикнула красавица.
«Еи... еи... еи...» - заныло, застонало эхо.
– Такой цены даже на Кристи не дают! На аукционе, слышали про такой?!
Священник опустил голову. Его взгляд запутался у него в бороде. Он теребил ее желтыми, будто прокуренными, высохшими пальцами.
– Вы их – на восстановление храма потратите! На ваших же дураков-прихожан! На новые иконы! На новые ризы! На все что хотите! На...
Она взяла священника белыми лайковыми руками за плечи и беззастенчиво, крепко тряхнула.
– На это – вы сто новых ваших храмов построите! Ну!
На лицо священника было жалко смотреть.
Красавица побеждала.
Длинные, синие, светящиеся серебряными белками во тьме, глаза Богородицы умоляли о милости. О пощаде умоляли.
– Двести пятьдесят – моя последняя цена, - сухо, холодно сказала красавица. И крикнула в лицо священнику:
– Последняя цена!
Потрескивали свечи.
– Нет, - сказал священник.
Было видно, как трудно ему было это говорить.
Красавица разъяренно повернулась к священнику спиной. Два здоровенных мужика, наряженных в невидимо-черное, послушно повлеклись за ней.
Она большими шагами подошла к Чудотворной и пальцем растерла каплю святого мира у Нее на щеке.
– Не плачь, девчонка, - сказала красавица Богородице и нагло подмигнула ей. - Не вышло у нас с тобой сегодня. Не вышло сегодня – выйдет завтра. Глеб, дай батюшке визитку!
Ражий черный мужик всунул в дрожащие руки священника бумажный квадратик.
Красавица понюхала вымазанный миром палец. Помазала пальцем губы.
– Очаровательный запах, - сожалеюще сказала. - Ну, да мы еще поиграем в кошки-мышки. Никуда вы от меня не денетесь!
Она пошла к выходу из церкви. Черные мужики, как медведи, переваливаясь с боку на бок, зашагали за ней.
Около двери она обернулась и крикнула священнику, как в лесу, издали:
– Триста!
«Ста-а-а... ста... ста...» - запело эхо.
Когда светлое драгоценное манто мазнуло полой по распахнутой двери храма, священник жалко посунулся вперед. Голос его трясся, когда он крикнул в дорогую меховую, стройную, исчезающую спину:
– Это... ваш рабочий телефон?!
Богородица Умиление плакала ароматными, светлыми, золотыми слезами.
Тихо, темно, пустынно было во храме.
2.
Петр сидел в спаленке на кровати. Со своей девочкой в обнимку.
Они ели руками яичницу, возя пальцами по тарелке. И хохотали.
Рядом с ними, на кровати, лежал пистолет.
Ночь глядела в окно тысячью искр, огней, снегов, фонарей; глазами мертвых людей глядела в окно ночь, чтобы живые – о мертвых – ночью вспоминали.
В спаленке света не было.
Петр и его девочка доели яичницу. На тумбочке стояла еще банка с кусочками селедки, дешевые пресервы.
Петр открыл селедку, и они тоже стали доставать куски селедки маслеными пальцами, без всяких там вилок и ложек, и отправляли в рот. И снова хохотали.
Петр опустил руку за кровать. Поймал за глотку, как гуся, бутылку. Отпил сам. Протянул своей девочке.
Она взяла бутылку и жадно, смело, крупно глотнула.
Не поперхнулась: тут же ловко цапнула селедину, закусила.
На полу спаленки были разложены первые номера их газеты.
Старуха Лида и Василий Гаврилыч спали в кладовке; Лида – на постеленных на ванну досках, Гаврилыч – на сдвинутых стульях; был слышен их мирный, вразнобой, храп.
«ДРУГ НАРОДА-2» - чернели, в свете заоконных снегов, газетные шапки.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Флейта Кришны» - пожалуй, самое загадочное полотно художника. Посреди кругло, рельефно клубящихся темно-синих, густо-ультрамариновых, лиловых и турмалиново-красных туч летит гигантская стрекоза. В отличие от обычной стрекозы, у сновидческой стрекозы Михайлова очень много крыльев. Многокрылое, сказочное небесное существо не пугает, а чем-то притягивает: трепещущие крылья светятся нежным, радужным светом, фасеточные глаза таинственно мерцают, и мы внезапно понимаем, что узкое брюхо стрекозы, цвета пламени ночного костра, – это и есть небесная флейта, играющая еле слышную, нежную музыку ночного полета. Эти музыкальные вибрации переданы исключительно светом и цветом. Михайлов – бесспорный мастер света, и здесь он не изменяет себе».
ИНТЕРМЕДИЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ НОЧЬ
В комнате было две девушки: золотая и черная.
Черная и золотая.
Как их звали? Тельма и Луиза? Барби и Хельга? А может, просто Ирка и Анька?
Одна медленно пила густо-красное вино из высокого, длинного бокала. Другая – медленно двигая челюстями, поедала золотой ложечкой из фарфорового блюдца какие-то фрукты. Отсюда было плохо видно, какие фрукты. Черные какие-то, и чем-то белым залиты. Вроде чернослива в сметане.
Может, это и был чернослив в сметане.
Вокруг девушек, черной и золотой, вздымалась громадная спальня.
Спальней ее было трудно назвать.
Скорее, это была белоснежная ночь Антарктиды.
Со стен глядели ледяные картины. Громоздились торосы снеговых подушек. Свешивались искристые, ледяные сталактиты светильников: люстр, бра, стеклянных свечей в мертвых шандалах. Свисали до полу белоснежные, метельные занавеси, атласно, жемчужно блестел балдахин.
Под белым балдахином молчала белая кровать. Она была шире «Титаника». На ней можно было уплыть в свою смерть. И наслаждаться смертью, как жизнью.
На кровати бугрились сугробы простыней, одеял, подушек. Все сияло чисто-белым, неземным светом.
В этой нереальной белизне настоящими были только красное вино. И черный чернослив в сладкой сметане.
– Любимая, - в нос протянула золотая, допивая свое вино. - Тебе не кажется, что нам пора бай-бай?
– Санни, не понукай! - чмокая, ответила черная. - Мне такой потрясный диск приволокли! Из Египта. Хочу посмотреть вместе с тобой. И тогда уж спать.
Золотая медленно поставила пустой бокал на стол.
– Диск? - медленно, сонно спросила. Сонные глаза косились вбок, на белые айсберги, зовущие раствориться навек в снегу сна. - Какой еще диск?
Золотая медленно зевнула.
Черная, прекратив жевать чернослив, глядела ей в многозубую, белоснежную пасть.
– За него Ширяев кучу бабла отвалил, - черная поставила пустое блюдце на стол, рядом с бокалом. - Кучу бабла, в натуре.
– Зачем?
Золотая зевнула снова.
Черная тоже зевнула.
– Прекрати зевать, мне передается... Там что-то такое... настоящее.
– Убийство? Расчлененка настоящая? Секс с младенцами?
– Да, что-то такое. Но очень, о-о-о-очень стильно сделано. Съемки крутые. И, прикольно то, что делал это известный режиссер.
– Кто?
Черная назвала громкое имя.
Золотая присвистнула.
– Ого! Много заработал парень. Не боится загреметь в кутузку! Хвалю.
– Да прикол в том, что весь мир уже знает, что именно он это снял!
– Тем более молодец. Ну, давай ставь диск. Не жалеешь ты меня.
Золотая шагнула к черной. Положила обе руки черной на обе груди. Сжала торчащие из-под тонкой ткани соски между указательным и средним пальцами.
Они поцеловались, и целовались долго, сладко.
Потом черная, разрумяненная, как яблочко, отшагнула от золотой, подошла к экрану, стала возиться с диском.
На экране творилось черт-те что. Кровь лилась, как вино. Вино лилось, как кровь.
– Я устала смотреть эту лабудень, - зевая, сказала золотая. - Я-то думала, это действительно классно. Банальная похабень. Дурак твой Ширяев.
– Его обманули, - сказала черная.
Они обе сидели в глубоких, мягких креслах, далеко от огромного плоского экрана.
– Я устала глядеть на эти красные толстые члены, - сказала золотая. - Пошли они в жопу! Спать, спать!
– Я не хочу спать, - сказала черная, прикрыв глаза.
– Фу, какая бессонница у нас! - смешливо протянула золотая.
– Я не хочу спать с тобой, - сказала черная и медленно, медленно встала из кресла.
Медленно, медленно встала и золотая.
– Что? Что ты сказала?
– Я. Не хочу. Спать. С тобой. Я. Больше. Не буду. Спать. С тобой, - медленно выговорила черная.
Повернулась к золотой голой, в вырезе платья, спиной.
Золотая медленно обошла черную. Зашла спереди. Встала перед ее лицом.
– Повтори, что ты сказала, - медленно сказала золотая.
– На хер мне повторять. Ты все слышала, - сказала черная.
Видно было, что ее трясет.
Что ей тяжело и страшно говорить золотой это.
– Ну-ну, - сказала золотая. - Вот такие дела.
Она помолчала.
Молчала и черная.
– Ты хорошо подумала, что говоришь? - спросила золотая. - А если я тебя сейчас изнасилую? Чтобы тебе неповадно было?
– Я не твоя вещь, - сказала, дрожа, черная.
У нее щека была измазана сметаной.
На губах блестела перламутровая помада золотой.
– Ты моя вещь, - сказала золотая.
– Нет! - крикнула черная.
– Врешь, - сказала золотая. - Как же ты врешь, собака.
И золотая подошла к черной и дала ей звонкую, громкую пощечину.
Они дрались грубо. Зверски. По-настоящему. Так, как дерутся бабенки в подворотне – из-за пьяного любовника. Так, как дерутся мужики на зоне. Так, как на зоне дерутся бабы. Золотая опрокинула черную на пол, возила ее головой по полу; стрижка черной разлохматилась, ее голова стала похожа на больного старого, грязного ежа. Черная дико, больно лупила золотую в бок, под ребра, острым кулаком. Царапала золотой лицо. Алебастровые щеки золотой прочертили кровавые полосы. Кровь капала на цветной паркет, на белоснежную шкуру белого медведя, распяленную, распятую на полу. Медведя снова убили, только он об этом не знал. Девушки дрались круто: не на жизнь, а на смерть. Молча. Не стонали. Не вскрикивали. Не визжали. Они дрались так: или я тебя убью, или ты меня.
И они убивали друг друга.
У золотой уже были расцарапаны плечи ногтями черной. У черной – разбита голова: золотая швырнула ее головой об угол беломраморного камина. Кажется, у черной было сломано ребро – она странно крючилась. По ее искровяненному лицу ползли кровь, слезы, слюна. Платья были давно порваны. С грудей свисали ошметки дорогих тряпок. Они дрались, и было ясно, что до конца еще далеко.
Они обе были такие живучие.
Как кошки. Как две кошки.
И вдруг, в пылу дикой драки, золотая навалилась на черную сверху, всем телом, и прижала ее всей своей тяжестью к паркету.
И – впилась ей в губы диким, звериным поцелуем.
Оторвалась. Губы черной были прокушены. По губам, по зубам лилась кровь.
Глаза черной были закрыты. Кровь ползла по подбородку.
Губы золотой тоже были в крови. Она тяжело дышала.
– Я хочу тебя, - тихо, так же тяжело дыша, резко вглатывая воздух, сказала черная.
– То-то же. Давно бы так, - сказала золотая.
Они сорвали друг с друга последние искромсанные тряпки и упали на белоснежную кровать, пачкая ее кровавыми пятнами.
Золотая впивалась зубами во вставшие дыбом, черными чечевицами, соски черной. Ее жадный палец глубоко, дико, ища и не находя сладкое дно, погружался в мякоть, в соленую влагу теплой, безумной щели, на ощупь сходной с жалким слизняком.
Черная выгибалась подо ртом, под зубами, под животом и наглыми пальцами золотой. Изгибалась змеей. Застывала, как в столбняке. Снова билась. Била ногами. Вздрагивала смуглыми коленями. Кричала.
Дикие крики не вылетали из ледяных окон. Ледяные окна были плотно закрыты.
На улице стояла белая страшная зима, а нежные девушки боялись холодов.
ЧЕРНОЕ АЛЛЕГРО. ПЕТРУШКА И СТЕПКА
Я совсем не думал, что за нами будет погоня.
У нас был митинг, на площади Минина, и он почти провалился; и Степан разозлился капитально; и так быстро темнело зимой, и надо было быстро удирать, у нас было это все отработано, и Степан не боялся нисколько, это был такой мирный, вялый митинг, ну, мы помахали плакатами, как прощальными платками, покричали чуть-чуть, а рядом с нами что-то свое кричали коммунисты, а рядом еще и зеленые, так что это была дерьмовая сборная солянка, и в ней плавали сосисочки, грибочки, мясцо, лимончик, перцы красные, маслины черные, оливки зеленые и еще Бог знает что.
Степан был недоволен.
Он двинул меня кулаком в бок и тихо кинул мне:
– Давай, бери Белого, и еще кого сможешь, двигай в мою машину. Я туда пошел. Один. Вы тоже по одному. Все в порядке.
– Все лажа, - сказал я.
– Пораженье от победы ты сам не должен отличать, - тихо, зло сказал Степан.
– Это что, стихи?
Я уже смеялся.
– Дурачила. Я пошел.
Он исчез в метели. Я оглянулся. На площади уже почти никого не было. Сиротливо торчали голые кусты вокруг старого погибшего фонтана. Бронзовый Минин глупо простирал кривую руку к небесам. Минин куда-то кого-то призывал. А его никто не слышал.
Я знал, где припарковался Степан.
Рожа Белого моталась поблизости белым носовым платком в метели. Он стоял с непокрытой головой. Ему в открытый рот залетали птицы снега. Он был похож на чучело на зимнем огороде. Я подмигнул ему, и он, издали, близорукий, а увидел.
Пошел за мной. Понятливый.
А больше я никого на площади не увидел. Ни Кузю. Ни Паука. Ни Зубра.
Они все делись куда-то.
Ну, профессионалы. Испарились.
Я подошел, отпечатывая черные следы в свежем снегу, к машине Степана. Я спиной знал: за мной идет Белый.
– Все класс, - сказал я, захлопывая дверцу, усаживаясь поудобнее. - Белый сейчас. Он идет.
– И-дет, - сказал Степан раздумчиво. - И-дь-е-от. Идиот, в общем. Князь Мышкин.
– Кто такой князь Мышкин? - спросил я, и мне стыдно стало.
– Садись, два, - сказал Степан, кладя руки на руль, не глядя на меня. - Мать тебя чему учила? А в школе?
– Я школу бросил, - сказал я.
– Где Белый? - сердито бросил Степан.
– Я вот он, - сказал Белый, открывая дверцу.
Мы поехали.
Белый вечер обступил нас, ложился под колеса Степановой старой машины.
Все было спокойно. На душе было грязно и плохо.
Степан, за рулем, сердился, но молчал.
Мы ехали.
– Белый, тебя где выбросить? - сказал Степан, смотря прямо в лобовуху, на белую, как мрамор, дорогу.
– На Ковалихе, - искусственно-весело улыбнулся Белый.
Белый выпрыгнул на трамвайной остановке, и Степан стронул машину осторожно, потом погнал все сильнее, но не так чтобы очень.
И тут я – я первый – в зеркало – заметил их.
Машину ментовскую. Погоню.
– Степан, - сказал я как можно спокойней. - У нас на хвосте.
– Оторвемся, - так же спокойно выцедил Степан.
Он уже тоже увидел их в зеркало.
И быстрее погнал.
– Ты как хочешь? - спросил я его.
Я был еще спокоен как снеговик с морковным носом.
– Смотри, - сказал Степан. - Смотри и учись. На права-то сдал?
– На какие шиши? - спросил я. - Шишей-то нету.
– Шиши надо заколачивать, лентяй, - тихо и злобно, переключая скорость, сказал Степан. - А ты на материнской шее сидишь. Если бы ты был моим сыном, я бы тебя!
– Что бы?
– Я бы тебя излупил – мокрого места не оставил. И ты сразу бы зашевелился, лоботряс.
Злоба, такая злоба звучала в его голосе.
Они не отрывались. Они не стряхивались.
И мы наддали.
И они – наддали.
Степан чуть не врезался в зад маленького старенького «москвичонка». Выругался сквозь зубы. Он злился все больше, я это видел.
Вечерние дороги были не такие загруженные, конечно, как днем. Пробок уже не было. Но трудно, все труднее было лавировать, на скорости, между машинами.
Мы уже откровенно гнали.
Они гнали за нами. Не отставали.
В боковых стеклах мелькали деревья, дома, окна, прохожие, светофоры, собаки, дети, киоски.
Впереди горел красный дикий глаз светофора.
– Что ты! - крикнул я.
Степан рванул на красный.
Машины дико загудели. Мы чуть не врезались в автобус, черт! Степан включил сирену, будто он был «скорая помощь».
– Ремень накинь, мудило, - швырнул он мне зло.
– Это мы такие преступники? Это мы им так нужны? - спросил я.
– Это они на принцип уже идут.
Степан вцеплялся в руль белыми пальцами.
– На принцип – изловить и в каталажку?
– На принцип – догнать во что бы то ни стало. И избить. Может быть, до смерти. За то, что мы быстрее их ехали.
Голос Степана был рваный, дикий и злой, как рваная волчья шкура.
Как мы вывернулись из-под чужих колес?
Я не помню. Все мелькало перед глазами.
Все дико, страшно и весело мелькало, катилось куда-то.
И мы рвали, резко рвали – на красный, теперь уже все время на красный.
И они – менты поганые – не отставали!
Они тоже включили сирену.
Мы мчались по городу, и мы и они, с включенными сиренами! Вопили мы! И они орали сиреной нам сзади: все, хана вам! Хана!
А Степан цедил сквозь зубы, вцепившись в руль, бешено выкручивая его на поворотах:
– Врешь, не хана. Врешь! Не хана! Оторвемся! Оторвем...
Я понял – мы летели передом прямо во встречный КАМаз.
Я уже воочию видел, как я лечу, вылетаю через разбитую в мелкую слюду лобовуху.
И как Степан становится плоской, страшной кровавой лепешкой.
Я все это увидел в один миг.
И зажмурился.
Мы пролетели в миллиметрах от КАМаза.
Раздался громкий, адский шорох. Треск, как взрыв.
Как будто вспыхнуло!
Это в аду, мимо которого мы просвистели, кровавым ножом разрезали металл.
– Ободрались, - выдохнул Степан. - Проскочили!
Он покосился на меня.
Я вжался в кресло.
– Обосрался?! - весело выкрикнул Степан.
Руль крутил.
Я оглянулся.
Они мчались сзади!
– В плохих фильмецах в это время менты долго, долго стреляют в героев, - выцедил Степан.
– А в хороших?
– А в хороших героев уже убивают. Наповал.
– И фильм кончается?
– Да. Кончается. Держись! - дико, коротко проорал Степан мне в ухо.
И резко выкрутил руль налево, налево, еще налево.
Я зажмурил глаза.
Крепко-крепко.
И так, со склеенными глазами, сидел, в кресло вцепился.
Я ждал.
Я ждал, что они и правда выстрелят.
Почему они не стреляют? Почему? Почему?!
– Все, - сказал Степан.
Я расклеил глаза.
Машина мчалась по улицам окраин.
– Мы оторвались. Я же говорил, - сказал Степан.
У него уже был не злой голос. Довольный голос у него был.
– Мы показали им хрен, - весело сказал Степан.
Он отнял правую руку от руля и показал мне средний палец.
Я поглядел на него. У него все лицо было залито потом. Он ловил свой пот губами.
Я сунул руку в карман «косухи», вынул носовой платок и бессознательно вытер лицо Степана.
– Мамка платок сунула? Мамкой твоей пахнет, - сказал Степан.
– Ты ее любовник? - спросил я.
– А что, побьешь? - спросил Степан.
– Нет, ничего. Любитесь на здоровье, - мрачно сказал я.
– Спасибо, что разрешил, - так же весело сказал Степан.
Светофоров было на шоссе уже мало.
Все меньше.
Начинался черный лес.
Я представил, как мать обнимает Степана, и мне и правда захотелось ударить его.
Но я не сделал этого. Вместо этого я сказал:
– Мы все-таки оторвались. Ты ас.
– АС Пушкин, - хохотнул Степан.
Носовой платок лежал у него на коленях, как мертвый голубь.