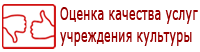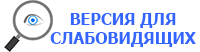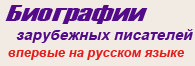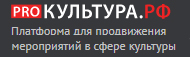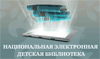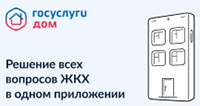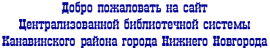
7
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СТЕНА ХРАМА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Ровные ряды красных сосновых стволов. Краснолесье. Корабельные сосны. Они качаются и гулко шумят. Ветер сильный, свежий налетает с севера и качает, раскачивает их. Так раскачивает корабль в северном море, мачты гнет. И моряки молятся Богу, чтобы – не потонуть.
Рядом с бором – березняк. Белые стволы берез против чистого, алмазного снега видятся грязно-розовыми, серо-перламутровыми. Очень тонкие стволы; тоньше тальи юной девочки. Березы ниже сосен ростом, и ветер не досягает до них; они стоят спокойно.
Снега. Лесные поляны заснеженные. Белые, как расстеленные среди сосен и берез чисто выстиранные белые платы. Солнце ровно и мощно освещает зимний лес.
На опушке леса, на пне сидит Богородица. Тусклая медь нимба над Ея головой горит углем, вынутым из печи. Она сидит и прядет на старой болгарской прялке-крестовине овечью шерсть.
Богородица одета в темно-синий сарафан. Крупные пуговицы на сарафане в виде ромашек: сердцевина янтарная, перламутровые лепестки. Она прядет желтую шерсть, и наматываются на крестовину теплые шерстяные витки.
Со стороны краснолесья, от гудящих сосен к Ней по снегу медленно, беззвучно идет Архангел. Он ступает широко и нежно, ставя на снег ногу осторожно, и снег тает и течет ручьями под горячей стопой. На снегу остаются темные следы. Они полны, как чаши, талой водою.
Архангел подходит ближе, ближе. Богородица его не видит. Не слышит: так тихо он дышит. Так тихо, широко раскинул он многоперые, могучие, в размах сосновой кроны, крылья. Она все прядет, и быстро вертится в узких розовых пальцах деревянная крестовина, и мотает желтую грязную шерсть бесконечное Время.
Наледь хрустнула под Архангельской ногой. Она обернулась.
- Ах! – говорит Она тихо и нежно. – Как ты светел, Небесный!
Архангел протянул Ей подснежник.
- Разве уже весна? – удивилась Богородица, взяла цветок осторожно и подняла на Архангела морозные, светло-синие, ярко-ледяные, чистые зимние глаза. – Разве уже подснежники расцвели на проталинах?
Архангел улыбается, и нежный рот его плывет талой, текучей водой. Березы шумят над его головой. Русые кудри пропитаны ледяным ветром.
- Да, уже весна! – говорит он и глядит, как Богородица склоняет лицо к цветку и вдыхает запах, и целует лепестки. – Весна наступила!
- А снег – почему?..
Отсвет медного старого нимба на детских, прозрачных лепестках.
Архангел становится перед Богородицей на колени в снег.
- Ты – Северная Богородица! – Слова излетают, как птицы весенние, из его рта. – Ты – Царица Белого моря и Карского! Лесов Двинских и Архангельских! Песков и льдов белых, серебряных! Княжества Твои медвежьи, угодья заячьи! Шубы Твои, Царица, - беличьи и росомашьи… поляны Твои оленьи, морошковые…
- Что же это на главе Моей? – Она поднимает белые, розовые юные руки и осторожно ощупывает голову.
- А это корона Твоя Царская на главе Твоей! Это золото Твоих рек северных, это серебро ручьев Твоих, под тонким льдом гремящих… Аквамарины озер Твоих лесных, изумруды еловых копей твоих грибных! Сапфиры, острые сколы торосов Твоих соленых, морских… сапфиры и цитрины… Драгоценной короной увенчал Тебя Господь, возлюбивший Тебя! Сына родишь Ты от Господа! Слышишь, Мария?!
И упала деревянная древняя прялка из рук Богородицы в сугроб. И повалилась Она с пенька – да на колени в снег! Прижала руки к груди! Заблестели слезы в очах Ея! И выдохнула Она в морозный, в солнечный ветер:
- Се, раба Твоя, Господи!.. да будет Мне по слову Твоему…
И встал Архангел с колен. И простер над Богородицей руку свою.
И сильнее зашумел ветер в верхушках краснотелых сосен, и радостно запели сосны Богородице гулкую, праздничную песню свою!
А подснежник в руках Ея поднял белую, пушистую голову, тонко, всеми прозрачными тайными лепестками, зазвенел на ветру.
И вышли из леса на опушку заяц-беляк, черный огромный, как корабль, медведь, волк со шкурой серо-пестрой, со вздыбленным загривком, лось с рогами чугунными, олень с рогами воздушными; а еще выкатилась лиса огнехвостая, выскочил еж, все иглы встопорщил радостно, вылетели сороки да вороны, соколы да орлы над соснами взлетели!
И все они Архангела и Богородицу обступили.
И все Ей хвалу запели:
- Радуйся, Благодатная, Матерь не только Бога и людей, но и всякой твари живой Навечная Царица и Владычица!
И улыбнулась Мария: Ея лес хвалу Ей запел!
Рычал, клекотал, мычал, выл, клювами цокал, гудел и вопил!
- Милые звери, родные, - Богородица тихо сказала, - вот вы Мне песню поете; а люди, люди Мои споют ли Мне песню?
Обернулась – лишь дым сизый, сапфирный, от крыльев Архангела в воздухе зимнем. Лишь дым голубой.
Да подснежник в дрожащих руках.
Да прялка, крестом воткнутая в подтаявший снег.
НЕМОЙ СЫН. СЕРАФИМ
Все в Василе было для меня старое и живое, пережившее великие века крови и скорби.
Старая щеколда. На нее закрывались бабки, деды, а то и прадеды наши.
Старый колодезь. Кто его копал? Кто воду под землей искал? Кто сруб колодезный рубил? Кто – ледяной водой – горло, сердце обжигал…
Старый сундук. Иулиания держала в нем простыни. Сундук стоял в летней комнате; в ней печи не было, и зимой, когда Иулиания вынимала чистые простыни из сундука, они пахли сугробом, Рождеством и Масленицей, хрустким ледком на лужах, синей метелью и святой Крещенской водой.
Сундук был обит полосами блестящей черной, кое-где ржавой жести; по периметру крышки шла тонкая, кружевная резьба. Я склонялся и рассматривал ее. Старый резчик, кости его уж истлели в земле, изобразил небесных голубиц, с растопыренными в счастье жить и лететь крыльями, с веерами сказочных, как снежинки, узорчатых хвостов.
Я гладил сундук, как если б он был живой. Как живого теленка… пса.
Выходил в сад. Подходил к окну. Глазами обнимал старый наличник. Опять резьба, но уж тут виноград, виноградные гроздья тяжелые! Виноград – откуда ты здесь, в лесной, в зимней, железной стране? О Русь, и чуешь ты, чуяла всегда – Индию синюю, сказку слоновью… Палестину пустынную, и пыль солнечная, теплая вокруг идущих Господа ног… Хлеб и виноград – ужин влюбленных. А что, если посадить в Василе – виноград? И – вырастет?
«Посади, - шептал я себе, - посади и вырасти… И ее – Настю – угости…»
Я старался не думать о Насте. Она больше не ходила петь в церковь на клиросе.
Она заканчивала школу; и что? Она соберется и уедет отсюда. Она забудет сумасшедшего сельского священника. Поступит учиться. А я – отмолю свой грех и мою любовь.
Пальцы протягивались к наличнику и гладили деревянный, в трещинах от ударов времени, ветра и дождей, Божий виноград.
Пальцы гладили резную, старую гроздь, а язык шептал:
- Господи, люблю тебя… жена моя… невенчанная… Господи, помоги тебе… и мне помоги… помоги…
И, чтобы заглушить этот солнечно, вольно текущий мед, это светлое, сияющее изнутри виноградное, святое вино, бродившее во мне, как в живом гулком чане, я изматывал себя работой, я работал день и ночь, и даже, кажется, когда спал – работал. Службы в храме. Хожденья по домам. Беседы с людьми. С семьями; с одинокими. Помощь старикам и старухам немощным. Вот церковь нашу обделывать потихоньку, благословенье от отца Максима получив, аз, неграмотный и недостойный иерей, расписывать стал.
Но что-то, кто-то еще оставался для меня в Василе неизвестным, не накрытым крылом моим. Дети.
Младенцы верещали. Пацаны с собаками наперегонки носились. Подростки глядели исподлобья, волоклись на дискотеку в грязный, нетопленый клуб. В зале клуба пахло мочой, пивом и табаком.
В Василе нашем была одна школа и один детский дом.
Дети, почему я хотел вас видеть, осязать, вас слышать, дети?
Какие песни я хотел с вами петь?
Челюсти сжал; помолился; и в детский дом, что на окраине села, у самого Супротивного ключа, пошел.
Я сам не ожидал, что так захлестнет горло петлей. Головы, головы, головы. Лица, лица, лица. Я не ожидал, что их будет так много тут. Будто не деревенский детдом, а городской.
Дети стояли в пустом зале, старое пианино у обшарпанной стены чернело молчащим, мощным диким затаившимся зверем, и кто-то грохнул стулом – наивно, или нагло, или, озоруя, сел, приглашенья не дожидаясь.
- Садитесь, дети, - сказал я, и все не отпускала глотку тугая петля, - да и я тоже сяду. Господь да благословит вас всех!
Рука моя поднялась, я перекрестил детишек привычным, уже вставленным в оправу всегдашнего обряда жестом, широким, вольным крестом, - и этот крест, начерченный моей рукой в воздухе, вдруг показался мне – живым, зрячим, огненным. Я будто осязал его. Ощупывал дрожащими пальцами.
И в одно мгновенье – пока благословлял молчащих, одинаково стриженных под машинку детей – понял звездное, суровое, важное.
Понял: мы, священники, часто ПРИВЫКАЕМ.
А Христос сказал ведь: «Се, творю все НОВОЕ».
Привыкаем креститься… Привыкаем крестить… Привыкаем благословлять… Привыкаем читать на Литургии, на Всенощном бдении, на панихиде, на литии древние молитвы – быстро, торопливо, гундося безостановочно, лишь бы живей отбарабанить, лишь бы скорей избыть… чтобы не утомлять прихожан… ведь все равно не понимают… и – не поймут… так зачем же стараться… скорей, скорей… вперед… болтай, шалтай… а ведь это священные Слова… свя-щен-ны-е…
«Я НИКОГДА НЕ ПРИВЫКНУ К СМЕРТИ», - подумал я, стоя перед гололобыми детьми.
Привыкну ли я к жизни?
Или – уже привык? Пообвыкся? Притерся, как говорит друг мой, старовер отец Симеон?
Дети терпеливо стояли и ждали. Я устыдился.
Я еще раз благословил их крестным знаменьем – теперь уже медленно, осмысленно, свято, радостно, раздумчиво, вкладывая в каждый полет пальцев над головами и лицами, в каждый поворот руки все сердце свое. Всю молитву и душу свою.
И мороз пластами, полосами пошел у меня по коже, по сведенной радостью горячей спине.
Я сел на стул, стоящий перед пианино. Дети, шумя, шурша и шепчась, тоже расселись, рассыпались по рядам старых, обитых черной кожей, заклепанных медными кнопками стульев.
Передо мной разевало зубастую пасть пианино. Услужливо были поставлены на пульт ноты. И даже раскрыты. Я прищурил глаза. Сборник листал. Ого, знаменный распев! Киевский… новгородский… Чесноков, Архангельский… Шведов… Боже, и Рахманинов тоже… из «Всенощного бдения»… и Чайковский, из «Литургии Иоанна Златоуста»…
Я знал нотную грамоту. Бабушка водила меня не только в церковь, но и в музыкальную школу. У нас на Автозаводе музыкальная школа тогда была всего одна, и бабушка, в мороз и в слякоть, терпеливо путешествовала туда со мной, держа мои нотные тетрадки в старом дедовом, довоенном портфельчике. Однажды, когда мы ехали в трамвае и бабушка, сгибаясь колесом, отвернулась - купить билеты у кондуктора, портфельчик, со всеми нотами, украли. Я плакал навзрыд. И учиться музыке уж больше не пошел.
И сейчас вот огненные, черные ноты, головешками из давней печи, задрожали, замерцали передо мной с истрепанных, старых страниц.
- Вот мы для вас, - вежливо, угодливо присела директриса. – Специально приготовили! Надя Масленова за этими нотами в Нижний ездила, в консерваторию! Вот! Если вы не играете…
- Я играю, - невежливо перебил я. И опомнился: - Простите.
- Мы бы хотели… - Дородное, сытое лицо директрисы источало масло жесткой задумки, отжатой в мягкую, струящуюся просьбу. – Мы знаем, отец Серафим, что вы – такой подвижник…
- Бросьте, что вы, - я чуть не зажал уши руками.
Лесть, ты тоже грех, и да простится этот грех женщине этой.
- Знаем, знаем… Вы всем помогаете… По селу ходите, с проповедями, бабушкам стареньким сколько добра сделали уж… Спасибо, что к нам заглянули. Мы на вас!.. – тонко, изучающее глянула, стрельнула глазками в меня, - рассчитываем…
«Рассчитываем, - билось во мне, - рассчитывать… Считать… Счетоводы… Счет… Расчет…»
- Я ни на что не рассчитываю, - сказал я весело. – Я никогда и ничего не рассчитываю. Вот дети, - обвел я их рукой, - и вот – я. Подружимся! Верю!
И дети вдруг загудели ульем, попрыгали со стульев, еще миг назад такие смиренные, взвились, с мест сорвались, ринулись ко мне, облепили меня! И пианино!
И сидел я, как пчела-матка в гудении и тепле большого роя.
И хорошо было мне!
- Вы играете? – вкрадчиво спросила толстолицая директриса. – А то у нас Надя Масленова…
Вперед выступила старая девушка с лицом плоским и темным, как горелый блин, с веселыми косящими глазами. «Марийская богинька лесная», - подумал я. И медом от нее пахло.
- Я играю… - пропищала раскосая лесная кикиморка.
- Я тоже играю! – Боясь, я положил руки на клавиши. Как в лодку садился долбленку, узкую, верткую, вот-вот стрежень перевернет. – Я вам спою, дети, а вы подпевайте! Как сможете! Ладно?
- Ладно… Ла-а-адно!.. ла-а-ад… но… - зашумели дети на разные лады.
И я, слепо нащупывая трусливыми и смелыми пальцами давно забытые, жесткие кости клавиш, запел, как пел в церкви, басовито, густо, радостно:
- Аллилуйя! Ал-ли-лу-у-уия, аллилу-и-и-ия, слава Тебе, Бо-о-о-оже…
Ребята, кто смеясь, кто подмигивая мне и друг другу, кто нежно, испуганно и серьезно, кто тонко, кто басочком, выводили за мной:
- Слава Те-бе, Бо-о-о-о-оже-е-е-е…
Умильное, будто политое подсолнечным маслом лицо директрисы воссияло.
Я видел: все было так, как мечтала она.
Я играл и пел «Аллилуйю» из Всенощной Рахманинова, из-под клавиш тугих колоколами звенели, зверями стонали и вырывались птицами на волю то чистые, то фальшивые звуки, но я фальши не слышал, я пел хвалу Господу моему, я вел фальшь старого, рассохшегося инструмента, как собаку на поводке, за чистым Господним напевом, и меня внезапно обожгло: здесь, в лесах русских, дебрях марийских и чащах чувашских, на дне заброшенного колодца России, я, священник малый, самый малый из людей на земле, Аллилуия! – дрожа и радуясь, пою, слабой человечьей глоткой возглашаю, в детском доме сиром и тесном, маленьком, как деревянная лодочка рыбачья, и дети со мной поют – первый ведь, первый раз в жизни поют Аллилуйю…
«И последний, быть может», - сказал ехидный, сухой голосок внутри.
«Изыди, сатано», - сказал я сухому, жадному голосу.
Допели мы Аллилуйю Господу нашему. Дети вокруг меня толпились все так же. Еще теснее. Кто-то уже руку протянул. Кто-то потрогал меня за бороду. Кто-то – за висящие по плечам концы отросших волос. Кто-то уже к рясе сунулся – и насмелился, крест на груди, на цепочке висящий пощупал.
- Ух ты, тяжелый…
- А что значит крест?
- А Бог есть? Или все это… сказки?
- Тю, дурак, што ты… Какие сказки… Если церкви Ему посвящены… и, видишь, песни про Него поют…
- А скажите, пожалста, вы наш поп?
- Киселева! «Поп» - так не говорят! «Поп» - это оскорбительно! Отец Серафим, вы их простите, они…
- Дети они, и Господь сказал: если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. – Я снял руки с клавиш. Лоб мой и брови от усилия играть и петь были залиты потом. Капля пота капнула мне на рясу, расплылось темное пятно. – Дети, вы пели очень хорошо! Хотите, я буду с вами разучивать такие святые напевы?
- Хотим!.. Хотим!.. Хотим!.. – посыпались, засверкали золотые зерна детских вскриков радостных.
Я шарил глазами по детским лицам. Внутри меня дрожала тонкая, невидимая золотая нить. Золотые невесомые нити летали и надо мной; летали в пыльном, солнечном воздухе казенного детдомовского зала, над казенными стульями, над крышкой пианино, над распахнутым в золотое лето широким окном.
Эти глаза. Я наткнулся на них глазами.
Напоролся.
Глаза пошли навстречу мне. Побежали.
И мои глаза тоже побежали навстречу.
Глаза схлестнулись; столкнулись.
Глаза обнялись.
Мальчик, стриженный налысо, под бокс, как все мальчики здесь, и старшие и младшие, мальчик с бегущими впереди лица глазами, в серых мышиных штанишках, шагнул ко мне.
Шаг. Другой. Третий. Я был совсем рядом.
И он тоже был рядом совсем.
- Яя, вавиве ия…
«Дядя, возьмите меня…»
Я не дослушал, я и так понял: «…к себе жить».
Я встал. Ряса отпахнулась, полетела вбок черным крылом. Рука моя легла на плечи немого мальчика так легко и просто, ведь он был мой сын, ведь я его родил.
- Ольга Петровна, - сказал я, обернув незрячее, будто заметенное колючим алмазным снегом, лицо к масленой директрисе, - я возьму мальчика к себе?
Я будто ослеп. Я ничего не видел. Я только ощущал под своей рукой, близко со своим телом, под боком, под ребром, родное, маленькое, знакомое, любимое.
- Ах… Ну как же это… Вот… Так сразу… А-а-а-а-ах…
Молчал зал. Молчали гололобые мальчики и девочки с туго заплетенными сиротьими косками.
Молчало старое, обцарапанное хищными временами пианино, черный лесной, умеющий петь человечьи песни зверь.
Я потом узнал у директрисы, почему так много детей в детдоме. Тут жили не только сироты. Тут жили еще и те, от кого родители отказались; у кого родители тяжело, беспросветно пили; у кого родители были смертельно больны и лежали в больницах, и некому было ухаживать за детьми; у кого родители сидели в тюрьме или отбывали срок на зоне.
Дети, дети, милые дети. Вы умеете ругаться матом; вы умеете плакать; вы умеете петь Аллилуйю, и любить вы умеете тоже. У вас всех, дети, есть Отец наш Небесный.
Но у этого, у одного этого мальчика буду я, отец земной. Вы уж простите, все остальные дети. Простите. Простите.
Когда я привел мальчика за руку к себе в избу, Иулиания широко распахнула нам дверь. Она из окна, отодвинув занавеску, подсмотрела: мы идем.
- Ба-а-атюшки! Ково энто ты, батюшка!.. Кто ж энто к нам, а-а-а-а?!.. – завела Иулиания, запела.
Она пела нам свою Аллилуйю.
И Стенька тоже запел, завыл за сараем. Просил отвязать.
И порхнул из избы – на Иулианино плечо – красный разбойник Яшка, и вцепился ей в плечо когтями, и заблажила Иулиания, замахала рукой:
- Черт, ирод!.. Иродище!.. Ну што ж как больно-та мине исделал!..
Раскрылив алые, кровавые веселые крылья, замахал ими Яшка, и из его кривого клюва выкатилось твердым железным орехом:
- Гос-с-споди помилуй! Гос-с-с-поди помилуй!
Мальчик засмеялся и протянул руку к попугаю. Другая его рука была в моей руке. Мы крепко сжимали руки друг друга. Будто он боялся, что я сейчас вырвусь, сорвусь – и улечу.
Или это я боялся, что он улетит?
– Ат яо вовув? – спросил мальчик. – Иаиссе?
– Как его зовут? Иродище? - перевел я тут же.
- Яшка звать бякашку! – выкрикнула Иулиания и расхохоталась, и затряслись ее живот и бока под свободной холщовой хламидой. – А тибя-та как звать, малец?! А-а-а-а?! Ты к нам в гости – аль насовсем?!
- Мымыфа, - сказал мальчик, весело глядя, как красный наш попугай шутейно клюет толстую огромную тетку в белом холщовом платье в мочку уха, будто хочет скусить золотую серьгу, которой давно нет, а осталась дырка одна. – Махахен.
Так я узнал, как зовут моего сына.
Его звали Никита.
Он был немой.
Он был – мой.
И я взял его насовсем.
СОН ПРО ДВУХ ПАТРИАРХОВ. СЕРАФИМ
Сон как явь.
Если б я знал природу сна! Я бы…
А что бы ты сделал?
А ничего. Знание тайны не избавляет от самой тайны. Знание тайны – ложь, ибо ты только в гордыне своей мнишь, что – ЗНАЕШЬ, а тайна как тайной была, так тайной – и осталась.
Я видел этот сон один раз, и больше он не повторялся.
Мне приснились Патриархи.
Два Патриарха. Старый и новый.
Старый – умирал. Я стоял у его смертного одра. Богатые красные, бархатные ткани. Откуда-то сбоку и сверху падали белые шелковые складки, летели. Епископы и митрополиты теснились кучно, жарко, гудели, шмыгали носами. Теплые и хитрые слезы не лились прежде времени, стояли на страже в глазах, под черепашьими старыми, без ресниц, веками. Старик умирал, а вокруг все другие старики были живы, и я замер – сколько стариков сразу, и все еще живые! Пронзила дикая, немыслимая мысль – я сам стану стариком. И скоро. Скоро. Я не остановлю это. И никто не остановит.
Старик с плоской, в виде сизой от инея лопаты, жесткой бородой в жесткой судороге вытянулся на длинном ложе. Слишком чистые простыни. Слишком белые шелка. Все торжественно и горько.
Смерть всегда обставляют празднично, будто она – венчание на царство.
Спор идет, дикий и нелепый, во все века. Благо она? Или – казнь?
Кто взахлеб орет – благо, ведь страдания кончатся. Кто вопит: ужас и уродство! Глядите, как дико, вонюче разлагается тело! А ведь вчера еще оно было вашим, мыслящим телом! И бежало! И целовало! И ело прекрасную еду! И – смешно, да, жутко и смешно! – помышляло о вечном!
Гул отходных молитв, легкий, похожий на сизый, синий дым гул наполнял покои. Патриарх вытянулся сильнее, бороду задрал, его ноги высунулись из-под ярко-алого шелкового одеяла, из-под снегов простыни, и я увидел синие пятки, загнутые крючья старых пальцев с проблесками желтых, выцветших ногтей. Ноги еще потянулись вперед, как бы отдельно от тела. Еще. И еще.
Я содрогнулся всем нутром. Святые старики вокруг меня сгрудились еще тесней, придавили меня огрузлыми плечами, сухими широкими лопатками, огромными, как у беременных баб, животами, и я задыхался. Пахло свечным нагаром, терпким лекарством; пахло свежими простынями, и поверх всех запахов – стариковской предсмертной мочой, стыдным недержанием, перегаром целой жизни из беззубого, дряхлого рта.
Пахло – смертью.
Яма рта, яма, яма…
Вырыть яму… Засыпать яму…
Незримые певчие затянули скорбное песнопенье, оно потекло будто из-под потолка, а потолка – не было.
Не было! Я поднял голову. Не было камня над головой, не было сводов с росписями, не было крыши! Насквозь, в чистую синеву, летел взгляд! В бешеный прогал! В открытую дыру!
- Извините, - хрипло сказал я и чуть тронул за рукав черной траурной рясы епископа, стоявшего рядом с одром Владыки, панагия на его груди сверкала больнее солнечного диска, - кто позволил сломать тут крышу?.. В Патриаршьих покоях?.. Владыка умирает… а вы… разломали… а если дождь?.. снег…
Епископ обернул ко мне бородатое, плоское, серебряное, жесткое, мертвое лицо.
Прошипел:
- Кто… тебя… пустил… сюда… в святой час… иди вон отсюда…
С живых небес, я чуял это щеками и лбом, дул холодный ветер. Усилилось печальное пенье. Становилось все громче. Рядом со мной широко и привольно перекрестился рослый, длинный, рыжий, как рыже-красная сосна, митрополит, вся парча его широкой, как стог сена, ризы железно, алмазно встопорщилась и будто тихо зазвенела. Он больно ткнул меня в грудь локтем, крестясь. Рыжие веснушки на его лице рассыпались, как хлебные сухие крошки – воробьям. Он напомнил мне косца на покосе. Стоящего по грудь в разноцветных травах.
Юру нашего Гагарина он напомнил мне, если б Юру в ризу нарядить.
Все тяжелее было дышать. Бормотали молитвы. Слов я не различал. Старик на смертном ложе дернулся, и его пятки странно, судорожно, увечно вывернулись наружу, - будто деревянные шары выскочили из тесных пазов. Синие… твердые…
Уже – мертвые.
Холод мгновенного пота обвил мне лоб. Старики, теснившие меня, все разом, медленно опустились на колени. Я слышал поминальные молитвы – и не понимал их.
- Господи… упокой душу раба твоего Алексия… - Язык, как бревно, набухшее водой, тяжелый топляк, медленно поворачивался на стрежне вечных слов. – Со святыми… упокой…
Он – святой. А – они?! Все они?!
Значит, святой – тот, у кого была земная власть?!
Все упали на колени и молились. А я – стоял.
И епископ в воронье-черной рясе, с режущей глаза панагией на черной мощной, как черный сугроб, груди вздернул колючую клочкастую бороду, и бородой гневно указал на меня, нечестивца:
- Вон, кому я сказал! Ты – недостоин!
И невидимые певчие, будто обрадовавшись, дробно заголосили на разные голоса, цветно и темно, скорбно и ликующе, издевательски, насмешливо, сожалеюще:
- Анаксиос! Анаксиос! Анаксиос… анаксиос…
И тут небесный ветер перенес меня в огромный собор. Внутренность его поражала. Росписи зелено-медными снопами валились на меня сверху, синими валами катились снизу, красными плащами пустынных святых и золотыми Лунами полночных нимбов хлестали меня по щекам. Паникадила горели пьяными созвездьями, сошедшими с ума. Ярость и яркость били и сбивали с ног. И я – падал. Я хватался за тех, кто двигался, шел мимо меня на великий молебен, я кричал: помогите!.. – а все шли мимо, все толкались и давились – вперед, туда, к амвону, к иконостасу, а меня огромным, жирным, золотым животом давило, плющило, пригибало к каменным плитам древнее густое, как золотая сметана, роскошество, чужое, дивное, забытое торжество. Свечи разрезали темный воздух желтыми лезвиями! Лампады мигали то красной, то зеленой планетой! Кадила катились в меня раковинами морскими, и я, хмельной, на пол валился, уже на гранитных плитах бессильно лежал, весь, как губка, пропитавшись сладким, винным горячим дымом! И музыка, музыка – она гремела, она ласкала и обнимала, и я не знал, куда деваться от нее, вездесущей, от ее плывущего по скулам, по губам горячего, медового воска!
Господи… что это…
- А это новый наш Патриарх сегодня служит! Здесь! В Елоховском соборе! – раздался близ меня быстрый, молодой шепот.
И я не обернулся. Я знал: во сне оборачиваться не надо никогда.
И в жизни – тоже.
Никогда не оглядывайся назад, душа моя… никогда не оглядывайся назад…
Я уперся в камень ладонями, закряхтел – и встал с каменного пола собора.
И – пошел, пошел, проталкивался через локти, зады, спины и животы, через спутанные бороды и тщательно расчесанные и напомаженные волосы, через митры и камилавки, через старушьи платки и модные сумочки, через кургузые плащи и богатые шубы, через кожаные куртки и обтерханные, бродяжьи, нищие портки, через черные рясы и парчовые ризы, через свеженаписанные смазливые иконы и древние, бедные, облупившиеся как крутое яйцо фрески, через всю мою жизнь, сужденную мне на веку, бился и проталкивался я, и я шел вперед, только вперед, туда, к сиянью на амвоне, ведь там стоял мой новый Патриарх, моя новая, радостная и великая власть, и я хотел припасть к его ногам, и хотел поцеловать ему руку, Владыке, и жаждал – хоть однажды в жизни! – поглядеть ему в лицо, близко, очень, очень близко…
«Все равно он не твой Бог на земле», - голос внутри меня был строг и непреложен.
Да, да, кивал я и задыхался, лез вперед, да, конечно, он не мой Бог, и он не наместник Бога на земле, но он – Владыка, а я – простой и нищий иерей, но все же, все же, все же…
Лучи ударили мне в лицо. Я понял, что я уже у иконостаса. Экие росписи! Мне с ними не сравниться, с богомазами Елохова! Из-за сиянья праздничной золотой ризы я не видел лица Патриарха. Боже, свет вместо лика! А еще говорят – Владыка не от Бога! Кто отмечен светом, тот…
Я не видел ничего, кроме света. Я услышал голос:
- Кто ты? Поднимись с колен.
- Владыка! – крикнул я и устыдился своего жалкого, острого крика. – Примири враждующих! Воссоедини тонущих в крови! Усмири безумных! Излечи…
- Как звать тебя?
Гром я слышал, и иконостас трясся, и раскрывались медленно Царские Врата.
- Аз есмь раб Божий недостойный, иерей Серафим!
- Ближе подойди!
Я шагнул. И закрыл глаза.
И так, с закрытыми глазами, я стоял и слушал:
- Ты веришь, что можно усмирить воюющих?
- Верю! – крикнул я.
- Ты веришь, что можно остановить реки крови и высушить крови моря?
- Верю! – орал я.
- Ты веришь, что можно излечить безумных, больных, диаволом одержимых?
- Верю! – Крик выходил из меня помимо меня. Так кричит женщина, должно быть, когда рожает.
- Ты веришь, что можно Господу победить диавола на земле…
Я не дал Патриарху договорить.
- Верю! Верю! Верю! – кричал и кричал я, и радостью распирало грудь мне, и я понимал: не прокричи я этого здесь и сейчас, вся бы церковь смолчала, весь бы громадный собор все пел и пел Патриарху сладкую хвалу и приторную осанну! А наша вера – вот она, простая и яростная, это победа в войне, это кусок хлеба в голодуху, это… это пролитая кровь праведника, это рожденье человека, это объятие, это… благословенье…
- Верю! Верю! Верю! Ве…
- Остановись, я слышу тебя…
Но я все кричал и кричал, и из-под ног моих почему-то вспорхнули голуби, много белых голубей, целая стая, и они били ослепительными белыми крыльями над головами прихожан, и это шел снег, и это мела метель, и я ловил снег губами и тянул руки:
- Благослови, Владыко!
И летело ко мне, через головы и руки, через лысые камни пустынь и рвущийся, дымный огонь тысяч дрожащих на ветру свечей:
- Во имя Отца… и Сына… и Святаго Духа… и ныне!.. и присно…
- И во веки веков, аминь, - дошептывали губы.
…старые, синие, замерзшие, обветренные губы. Кагора из горла глотнуть на морозе. Да это не кагор, дурак, а портвейн.
…что это за старик?.. почему у него рот мой, лицо мое…
…да это просто ты один, ты молишься за всех, а нищий бродяга тебе подпевает, на морозе смеется… гляди на него, как в зеркало, на бездомного, больного старика, гляди на него и молись ему…
Свечи в паникадиле напротив иконостаса горели ровно, чисто и ярко, освещали нежное лицо Марии, укутанное в белый снеговой плат, смуглые лбы и седые на морозе бороды Апостолов, огромные стариковские глаза Святого Младенца, все знающего про то, что будет с нами.
ДЕТДОМОВСКИЙ ХОР. СЕРАФИМ
Они все пели у меня в хоре, дети.
Я раньше думал, когда хор по телевизору или по радио слушал, когда на клиросе певчие пели: ну и что тут трудного, ну, подумаешь, регент рукой машет, такт отбивает, дирижер палочкой орудует, вступление показывает, чтоб не сбились, рты раскрыли, - и все, что это за работенка, не бей лежачего! Певцы-то все равно сами поют!
Нет. Хор чтобы запел – это труд. Это – трудно.
Сначала все рты разевают, голосят не в склад не в лад. Надо мелодию сто раз пропеть. Показать, куда, как ручей музыки течет. Чтобы по теченью ручья шли, не спотыкались.
Потом вроде музыку уловят. Ушами поймают. Ну, думаю, ура! Вперед!
Ура-то ура, но не вперед. Потому что в церковном хоре – не только одноголосие. Два, а то и четыре голоса. Как тут быть? Значит, хор надо на голоса делить? И с каждым этим маленьким хором – свою партию учить?
Вот и разделил. Вот и учил. Время на это дело немалое ушло.
А директриса, Ольга Петровна, чуял я, потихоньку ворчала: и что так долго возится, дети ведь, пожалел бы!.. у других, в клубе, вон, у Юрия Иваныча Гагарина, под баян веселый, соберется молодежь – раз! – и запоет! А этот поп заковыристый, наверное, думала Ольга Петровна, императорским своим дородным лицом, с тремя подбородками, маслено блестя… этот попенок, и чего колдует… чего детям буровит…
Видел я: детям было со мной хорошо.
Они, когда я приходил в детдом, как побегут все навстречу мне, как сгрудятся вокруг! И бороду перебирают, и за плечи, за волосы, за руки трогают, и личики светятся, и меня сразу к пианино волокут. А руки у меня иной раз грязные, а волосы нечесаные – я то с огорода прибегу, то с рыбалки, и руки все в земле да песке, бегу в детдом да по дороге лопухом ладони вытираю, - да и расческу с собою не ношу, я же не баба, - и устыжусь, и пойму: да, отец Серафим, запаршивел ты, браток, надо бы тебе сегодня – баньку себе самому да матери Иулиании истопить, а не старой Сан Санне Беловой или бабе Зине Кусковой, а то воняет от тебя, Господи прости, рыбой да червями, землей овражной да дымом печным, - хорошо, если ладаном. Да не перебьет ладан соленую, терпкую приправу к блюду земному, земляному.
Потом воняет от тебя рабочим, отец Серафим! Потом мужицким!
И я осторожно, тайно нюхал себя, нестиранную рясу свою.
И стыдно, стыдно мне от детей было.
А они так пели! Ангелы мои!
Ротики раскрывали, галчатки, воробьятки!
И чистые голоса неслись далеко, далеко, пробивая давно не беленный потолок детдома, пробивая старый шифер крыши, возносились над футбольным полем, над разнотравьем, над лугами, над марийскими лесами, где пел свою неслышную серебряную песню Супротивный ключ, над нашим бедным Василем, над Малиновкой и Барковкой, над Монастырем и Шишмарами, над Сурой и Волгой, да, над бедной нашей Волгой, убитой плотинами, заболоченной, украшенной погребальным венком желтых пахучих кувшинок, летели детские, ангельские голоса, и высовывалась из воды башка диковинного, лютого зверя Левиафана, которого Бог все равно победил сверкающей, могучей молнией Своею, и плескал по голубой, покрытой серой рябью, как шкура осеннего волка, дикой воде жуткий хвост Чудовища, а дети не боялись, дети пели хвалу Господу, дети смеялись, и золотые рыбы ходили, моргая круглыми рубинами мудрых холодных глаз, в холодной толще Волги, и огромная Золотая, моя Рыба, моя непойманная, царская, тоже ходила, играла вместе с ними, - дети пели, и Золотая Рыба пела, она танцевала, вспархивая из волчьей рябой воды острой свечкой, взмывала к небесам, к золотому васильскому закату, - и дети взмахивали руками, танцуя вместе с Рыбой, и я махал рукой, показывая певцам вступление низких, вторых голосов, и лился гимн на просторе, на миру, где и смерть красна, на высоком юру:
- Благословен еси, Господи… научи мя оправданием Твои-и-и-им!..
И дети, рыбаки мои малые, протягивали руки, тянули сеть, и в сеть заходили крупные звезды, и маленькие, мелкие полевые цветы, ромашки и фригийские васильки, колокольчики и гвоздички, тоже заходили в сеть, и землеройки и барсучки, и трясогузки и белобокие сороки, и лини с темно-золотой, грязно-изумрудной чешуей и алмазно блестевшие, сине-снежные язи с алыми, как ягоды, нагрудными плавничками, и цапли, летящие в вышине на ночевку в речные плавни за церковью моей, и огни рыбачьих костров там, на другом берегу, на сыром песке, на земле вечереющей, в вечереющем небе.
И дети тянули сеть на себя, и вытаскивали на берег, а лодка наклонялась, чуть не черпая бортом воду, так велика была добыча их, и Господь Сам радовался великой ловле, - и они вдыхали, осязали и созерцали богатый свой, драгоценный улов! – как тут самый маленький в сиротьем хоре, самый коротко стриженый, лысый-гололобенький, худенький лисенок, Ванятка Суровцев, у него отец спился совсем, а мать вышла замуж за продавца и укатила в Курмыш, в Чувашию, - Ванятка как взмоет писклявым голосенком, как закричит тоненько, пронзительно:
- Осанна-а-а-а! В вышни-и-и-и-их!.. Осанна-а-а-а-а…
И дети мои ослабили хватку. И дети мои выпустили сеть из рук. И сеть тихо, покорно легла на илистое волжское дно. И весь самоцветный, живой и бьющийся, кровавый и щебечущий мир выскользнул, вылетел, выпростался из сети – на волю.
На волю!
И снова развернулся, синим и золотым мафорием, над поющими детьми моими, и стал над ними сам – чудесной сетью, и сам стал улавливать их, души мои малые, живые, в живые и вечные сети свои…
- Оса-а-анна-а-а-а!..
Слезы плыли у меня по лицу, золотые рыбы, мальки золотые. Я не стеснялся их. Я улыбался. Дети пели. Я пел.
Я пел хвалу Богу моему и Богу нашему вместе с ними.
И на пульте черного старого пианино дрожали старые церковные ноты, и руки мои дрожали от радости, нажимая черные и белые старые клавиши.
Рыба черная, рыба белая. Вьюн и сорожка. Налим и судак. Сом и стерлядка.
Волга моя, Волга, река моя, музыка моя.
Дети мои, мальки мои. Еще растите. Вас поймают все равно.
Не обижайтесь на меня, дети, что я Никиту взял, а вас не взял. Вы все все равно мои дети. Я же к вам каждый день прихожу. Ну, через день.
Анночка, у тебя теперь есть братик, девочка моя, ты довольна? Ты рада?
ПАШКА ЯВИЛСЯ. НАСТЯ
Стук в дверь раздался. Вечером. Тятенька уж спал.
Я к двери подошла, кличу: кто?
- Открой, - голос слышу. – Открой, Настасья.
Голос я узнала.
Думаю: чего тут бояться… тятька же дома.
Открыла.
Пашка на пороге стоит.
- Не пустишь? – говорит. Зубы желтые скалит.
- Уходи, - я ему шепотом говорю. – Уходи!
- Не уйду, - он мне.
Так стоим друг против друга, как два бычка.
Я ему:
- Что ты от меня хочешь? Не приходи ко мне! Не надо!
- Тятя спит твой? – он меня спрашивает.
А я думаю: не дай Бог, сейчас отец Серафим вдруг придет…
И увидит, как я тут с Пашкой на крыльце…
Я киваю: спит, мол. Пашка мне:
- Ну так что ж ты, дура!
- Я не дура, - говорю. – Да ведь и ты не дурак. Ступай!
Он меня за руку как схватил! И на улицу выволакивает.
Я вырываюсь: пусти, мол! Стараюсь не шуметь. Тятю не разбудить.
Мамка, мамка, видишь с того света, как дочку твою на части мужики-то рвут… А я ведь девчонка еще… Рано меня женщиной-то сделали, вот и хлебаю горячего теперь…
- Пусти!
Я изловчилась и его ногой в живот ударила. А он как засмеялся!
- Настька! – кричит. – Мне от тебя и побои сладки! Ну, ударь еще! Ударь!
Я села на крыльце на корточки и заплакала.
Он ушел тогда. Постоял еще немного у крыльца и ушел. Прежде чем уйти, сказал над моей головой, я сидела плакала, лицо в колени уткнула и на него не смотрела: ты, Настька, давай не дури, давай по-быстрому попа этого бросай, ты ж видишь, он же придурок, чего в церкви-то мажет, дурь какую, все село ржет-смеется над ним, а попадьей он тебя не сделает все равно, ему на тебе жениться нельзя, так и знай. А я тебя замуж возьму хоть сейчас! Любую – возьму! Хоть попом этим говенным порченую, хоть кем другим! Мне насрать! Мне – ты нужна! В Воротынце распишемся! Свадьбу могучую закатим, пир на весь мир! Мы с братом Петькой работящие, руки-ноги у нас есть, мы тебе оба на свадьбу ой-ей сколько бабок заработаем! Гулять три дня будем! А ты не гляди, что я кривой, хрен-то у меня ведь не кривой, и ты, дура, первая об этом знаешь!
Потом наклонился и сунул мне в руку бархатную коробочку. По голове меня погладил. И ушел.
Он ушел, а я еще долго сидела на крыльце. Вытирала щеки ладонями. Не плакала уже. Глядела, как по доскам крыльца медленно ползет тяжелый черный жук. Коробочку медленно открыла: там на темном бархате лежало золотое кольцо. Или, может, дешевое, позолоченное, не знаю. Я сначала хотела выбросить коробочку в крапиву. А потом сжала в кулаке, прижала к груди и заплакала.
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ. НИКИТА
Мой папа Серафим очень чудесный. Он такой добрый. У него золотые волосы, они крутятся у него на плечах. Он всегда знает, чего я хочу, даже если я сам не хочу, а он знает все равно, и всегда мне все сделает, как волшебник, чтобы мне было хорошо.
Мой папа все понимает, как я говорю. Он нисколечко не сердится, когда я говорю, как сердятся воспитательницы в детском доме. Одна очень сердилась, Лилия Львовна. И даже била меня по щекам и по губам. А я плакал. Я же честно не мог выговорить правильно. Хотя я же все понимаю, что мне говорят. И сам говорить – могу!
Могу! Могу! Могу! Да! И – буду!
Сегодня мы играли в футбол. Мой папа с нами играл. Мы играли на футбольном поле, на пустыре, за детдомом. Там мальчики сделали ворота, из палок и старой рыболовной сети. Мой папа построил нас с мальчишками в две команды. Одна команда называлась «Язь», а другая – «Лещ». Вишня поспела как раз, и мой папа раздавил в пальцах вишню и нарисовал вишневым соком на майках у мальчишек таких красных рыб. У команды «Язь» на майках были рыбы длинные, как язи! У команды «Лещ» - покруглее, как настоящий лещ. Папа играл со мной в команде, за «Леща». Он был центральным нападающим. Ох он и здорово играл! Папа мой! Он так по мячу бьет! Классно! Раз – и мяч в воротах!
А Лешка Старосельцев, из «Язя», тоже здоровско играл! Как задвинет! А у нас голкипер взял и гол продул! Я крикнул: голкипера на мыло! А Лешка меня задразнил: аивева аыво, аивева аыво! А папа мне крикнул, высокий такой, сверху вниз, пока я мяч по полю катил: Никитка, не сдавайся! «Лещи» никогда не сдаются! Поднажми! И я поднажал!
И мы выиграли со счетом три – два!
И мой папа подошел, весь потный такой, пот с него прямо лил! И смеялся от радости! И поднял сначала мою руку, что мы победили! А Лешка Старосельцев стоял рядом и чуть не плакал. Нет, вру, плакал он уже! И мой папа шагнул к нему и тоже его руку поднял! И крикнул: «Ура команде «Язь» за мужество в бою!»
И все закричали ура! И завизжали! И запрыгали!
А потом, когда все отдохнули немножко, папа рассадил нас всех на траве, рядом с футбольным полем, и стал показывать, как ногой правильно гнать мяч. Он нас учить стал играть в футбол. По-нормальному. А то ведь мы от балды мяч-то гоняем. Гоняем, гоняем, пока сам в ворота не залетит!
Мой папа всем показывал, как нападать, как защищать ворота. Потом встал в ворота и сказал Севке Дубову: бей!
И Севка бил по мячу.
И мой папа подпрыгнул и изловил мяч!
Хотя мяч летел очень высоко над папой! И попал бы в верхнюю часть ворот!
Ловкий такой мой папа!
А потом папа взял мяч в руки, пошел куда-то на край поля и Мишку Бурова к себе подозвал. И всем сказал: я сейчас буду учить вас бить пенальти! Это удар такой, угловой!
А я крикнул: а кто в воротах встанет?!
И мальчишки, ну, они не со зла, они просто всегда меня дразнили, когда я что-то прокричать пытался, они стали все кричать: ао вовова ваеф?! Ао вовова ваеф?!
Прыгали и орали: ао вовова ваеф?!
И мой папа вытянул руку вперед. И все замолчали.
И мой папа сказал: кто над другим смеется, над собой смеется. Вы над собой смеетесь, ребята, а не над Никитой! Вы Никиту не обижайте. Вы его – любите! Разве человек виноват в том, что он немножко другой, чем вы?
Нет, конечно, он ни в чем не виноват, сказал Лешка Старосельцев.
И мой папа улыбнулся. И крикнул мне через головы пацанов: Никита, вставай в ворота! Будут бить пенальти – поймай мяч!
Мишка Буров катал мяч в руках. Потом положил к ноге. Потом разбежался и ударил. Я даже не успел толком приготовиться. Руки растопырил. Прыгнул! И поймал!
Я стоял с мячом в руках и смеялся!
И мой папа смеялся тоже! А потом подошел, схватил меня на руки – и вместе с мячом – как подкинет высоко! Я выронил мяч, и он стукнул по голове Гошку Дементьева. А папа все кидал меня вверх, все кидал! И ловил! Будто бы я был мяч! А он – вратарь! И смеялся!
И все смеялись вокруг!
И я крикнул: «Лещу» ура-а-а-а!
И Мишка, паразит, все-таки не утерпел, задразнился: ефю уя-а-а-а! ефю уя-а-а-а-а!
А Гошка Дементьев размахнулся и дал ему подзатыльник. Правильно.
За меня наподдал: а не дразнись зазря.
А потом мы пошли в детдом, обедать.
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ. СЕРАФИМ
Сухая земля сыпалась у меня под ногами, когда я с пацанами носился по футбольному полю. Они были так счастливы, что я с ними играю в футбол!
И им было совсем неважно, священник я, шахтер или матрос. Я показывал им профессиональные футбольные приемы, и они все сразу, быстро и ловко перенимали, повторяли за мной, молодцы!
Игра катилась мне под ноги, игра вспыхивала криками, воплями до неба: «Гошка-а-а-а! Надда-а-а-ай!» - и я весь вспотел, гоняясь с ними за старым латаным мячом по сухой корявой земле, и я видел, как счастлив мой сынок, мой немой сынок, гоняя вместе со всеми мяч и стараясь быть на поле рядом, все время рядом со мной.
Глазенки чистые, светло-серые, как утренний плес, на замурзанной, грязной мордашке.
Надо сказать Иулиании, чтобы сегодня же помыла его. Я в баню воды наношу.
Мы сели на мягкую душистую травку, что за футбольными воротами, из рыболовной сети сделанными, росла, на живой плюшевый, бабушкин, лягушечий ковер-самолет, и я еще рассказывал пацанам о футболе, о Льве Яшине, о Пеле, об искусстве защиты ворот, и они слушали, открыв галчиные рты и тихо потирая синяки и царапки. И я показывал им, как бить по мячу. Как вести его по полю, к воротам противника, через все заслоны защиты. Футбольной войне учил их я.
А когда Никита встал в воротах и растопырил ладошки, чтобы поймать пенальти – и все десять пальцев проткнули пыльный воздух футбольного поля десятью грязными и светлыми лучами, - ах вы, два маленьких солнца, две лапки звериных и диких, - я мгновенно увидел на его лице страх: сейчас задвинут, и я не поймаю! – и бойцовскую жесткую волю: шалишь, поймаю, не промахнусь!
И он не промахнулся.
Мяч в руках Никиты, он прижимает его к груди, к животу, и я смеюсь вместе с ним!
Гола нет, шепчу я себе, гола нет, мы поймали, мы смогли, мы…
Я думал о нас с ним: «мы» - и сердце обливало волной теплого, парного молока.
Вся ребятня толпилась передо мной перепачканная, грязная, счастливая. Кое-кто порвал штаны на причинных местах. У кого-то локти были крепко разбиты, кровью сочились – так рьяно бросались мои «язи» и «лещи» за мячом наземь! «Травку бы тут вырастить, - подумал я тоскливо, - больно им тут будет падать. А играть мы будем». Они теперь, сказал я себе и усмехнулся, тебя, иерей ты футбольный, не отпустят.
Я подбрасывал Никиту в воздух. Я хохотал, и дети смеялись. У нас у всех было ощущение, что в игре никто не победил – и победили все. Я подумал о себе: вот я молодец, что с ними в футбол сыграл, - и тут же подумал укоризненно: ну, еще, еще похвали себя, давай-давай, возгордись собой, ведь это же гордыня, отец Серафим, это ж смертный грех.
«Господи, Владыко живота моего…» Я нес на плече Никиту, смеялся, а в душе молился.
Вот работы будет нянечкам. Ушибленные коленки, разбитые локти, ссадины. Йод, вата, бинты. Воспитательши меня проклянут. Дети полюбят, а взрослые проклянут. И это так всегда?! Господи, и это так всегда?!
Мы еще постояли на краю футбольного пыльного поля, как на берегу высохшей реки.
А потом мы пошли обедать. В детский дом.
И на обед нам дали: щи из кислой капусты, жареную рыбу с гречневой кашей и компот, и Никита вылавливал из стакана разваренный чернослив, грушу и изюм, клал на ладошку и мне протягивал. И я думал, тая от умиленья, прости мне, Господи мой, богохульно: Святые Дары, Святые Дары.
ВЫТЕРЕТЬ СЛЕЗЫ ХРИСТУ. ИУЛИАНИЯ
Я дык этово мальчонку – сразу взлюбила. Наплевать мине, што он нямой! У нямого – душа ширше. Нямой глубже чует… дальше видит. Нямой, он што? Он – беззащитнай. Яму пожалицца некому. Не вымолвит он на нашенском-та языке… а на своим – балакат. Яму свово языка нам-ти – не передать… Кто смогат – понимат. Вот я – смогаю! Все яво словечки смешны – на русскай – перевожу! Он – радуецца. Обнимат миня! Цалует в живот! Я яму – головенку треплю… И тожа – цалую, цалую… Господи, мыслю так, Господи Сил, робятеночек вить… махонькай… ни любви, ни ласки, ни поцалуев – не имел… И вот энто все таперя у няво – ну, радость-та кака…
Однажды он миня так крепко, крепко обхватил ручонкими!.. И замер. Стоим так: я – с поварешкой, в фартуке своим хозяйскам, он миня облапил… И – молчок! Зубы на крючок! Стоим… Я ажник шалохнуцца трушу. Едва дышу… Носом… свищу… пс-пс… пс-пс…
И тут он мине, нямой робенок мой, и баит: ав-ка.
Господи! «Мамка» сказал!
И слезы-ти – из глазенок-ти моих – как сыпанули градом!
Я яму слязами всю макушку стрижену залила. Перед им присела, как присядку танцовать… Лапаю яво тож, за плечишки, за затылочек нежнай… теплай… Поцалуями личико яво горяче покрываю. Ах, думаю, Господи ж мой Боженька!.. Неужли я – на землице горькой – не рожамши – а – мамка!
Ма-а-амка-а-а-а-а…
И ряву, коровища, ну так ряву – никогды так ить не рявела ищо…
И я яму: да ты сыночек мой, да ты ласковай мой… да ты родненькай мой… единственнай мой… И прижимаю яво к грудям своим безмолочным, к грудям своим пустым, сиротьим… Вот ты да мой сыночек, да я вот – твоя мамка-а-а-а-а…
А он, сердешнай, мине слезки-ти со щек пальчикими вытират, да щеки мои, брылы стары, бульдожьи, в ладошки берет, да в глазенки мои слепеньки заглядыват… И грит мине так: еась! Еась! Я ия юю! Я ия юю!
Ну ясно дело, баит што… Не плачь, не плачь! Я тибя люблю, я тибя люблю…
Само главно дело живому, живущему – любить. Само главно! Друго все – от лукаваго. Матушка Михаила, строга баба така, и та мине в одночасье грит: сумей, грит, полюбить ближняво свово, и тыщи вокруг тибя – спасуцца…
Тыщи спасуцца, грю я ей?.. Тыщи, не многовато ль…
А матушка миня по губам как лапой вдарит! Смазала… небольно… да обидно… Грит: Господь наш на землю нашу грешну лишь затем и приходил, штоб тольки об энтом, об энтом самом – нам всем, дурням да еретикам, и поведать… Поведал!.. Распяли, растерзали… А Он все одно воскрес! А от чово воскрес-та, глупа ты баба, кричит?! Я стою… глазенки в пол уткнула… скровзь половицы готова провалицца...
От любви и воскрес, матушка Михаила мне прям в рожу вопит!
И повернулася в черной рясе своей ко мине толстой спиной. И крест у ней – на пузе – на черной холстине ляжит, навроде золотой самолет над зямлей летит… И пошла. Прочь пошла…
А я кланяюся, дура, да слезами захлебываюся, да в спину ей громко кричу: все, все поняла, матушка Михаила!.. все навечно поняла… урок мине, урок…
Я тибя люблю, Господь. Я тибя люблю, Христос. Я тибя люблю, отец Серафим. Я тибя люблю, сыночек мой, Никитка, Богом данный!
Да как жа мине быть с теми, ково я – не люблю?!
Как всех-та, всех-та как жа полюбить?!
Иль человеку то невмоготу?!
А тольки Господь смогат любить нас всех, скотов безмозглых, и все-превсе на свете нам, несмышленым, прощать?!
Ах, Господи, поняла. Поняла, прости дуру стару!
Поняла: мы все, все – дети для Тебя… дети Твои…
И Ты перед нами на корточки садисся. И Ты перед нами – от любови плачишь… И мы Тибе – маленьки дурачки – со щек Твоих слезыньки Твои – пальцами дрожащими – утирам…
РАССКАЗ О ЖИЗНИ: СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ ПЕТР СЕМЕНЫЧ, ПО ПРОЗВИЩУ БОРОДА
Они все меня так зовут, все село: Борода да Борода, ну, я уже и привык. Я медицинское училище в Чебоксарах окончил. Думал дальше учиться, три раза в Горьком в мединститут поступал. И все три раза не поступил. Судьба такая. Я мариец, фамилия моя Христолюбов, у нас хорошая семья, крепкая была. Одиннадцать детишек. Трое умерли во младенчестве. Восьмеро выросли, и все людьми стали. Всех родители наши, Царствие им Небесное, выучили, всех определили. Никто не спился, не скурвился. Я помыкался-помыкался в городе да и прикатил сюда, в Василь; больно уж нравилось мне это место. Какой простор! Какая красота! На Шишкин мыс выйдешь – дух захватит! Заброшенное, это правда. Как страна по швам трещать начала, так Василь и заглох; а раньше – курортом был знатным, со всей страны люди сюда приезжали отдыхать. Я приехал, из больницы здешней доктор уволился, место было свободное, а я вроде как не врач ведь, а фельдшер, ну что делать? Взяли! Людей-то лечить надо кому-то. Вот я подвернулся вовремя.
В советское время народ вроде меньше болел. Здоровей, что ли, люди были? Или климат поменялся? Или – еды было вдосталь, а потом голодать начали? Отчего инфекции оживают? Отчего груднички умирают?
Нет денег, и нет еды, и нет здоровья. Это в Василе-то! Где одним чистейшим воздухом можно питаться!
Но детям и старикам – не только воздух нужен. Детям и старикам нужны: масло, мясо, молоко, рыба, овощи, фрукты... и – лекарства.
В советское время лекарства были простые и дешевые. И они всегда были в аптеке.
А нынче они дорогие, и не всегда есть, какие нужны; и в город звоню, заказываю, а мне говорят, да, вот у нас тут есть церебролизин, в ампулах, две тысячи рублей коробочка! Ну, думаю, не всякая наша старуха себе укупит... не всякая... да ни одна, если честно, не купит... у нее ж пенсия – тысячи три...
Время изменилось. Новые люди народились. И с ними – новые болезни. Да и старых хворей в избытке.
Ну и нахлынули больные новой волной! Потекли ко мне! И бабушки-старушки! И парни с руками-ногами сломанными! И орущих детишек мамки-молодухи на руках тащат, бегут в больничку сломя голову: спасите, доктор, видите, красный весь, в жару, и понос без перерыва, это что, холера?! Нет, не холера, кричу, ну никак не холера! Обычная диспепсия! В худшем случае – дизентерия! И промывание желудка делаю. На все руки я от скуки: и банки на спины ляпаю, и кровь пускаю, и уколы ставлю, и капельницы, и даже массажи делаю, телеса стариковские ветхие пальцами ковыряю да кулаками побиваю! Чуть ли не костоправом заделался – позвоночники массирую, шейные позвонки вправляю, у кого межпозвонковая грыжа, - на свой страх и риск! Ребятишкам – прививки: от кори, от скарлатины... от дифтерии! Дифтерию, видишь ли, в стране опять развели! Может, думаю, и черная оспа скоро вернется? И – чума бубонная?
Да ведь сломали медицину. Заменили ее... не скажу чем. Сам не пойму, чем. Махнул рукой. Не удивлюсь, если чума возродится. Эта чернота, как сибирская язва, в земле затаилась. И если мы, люди, будем гадкими, подлыми – однажды фррр! - и взорвется.
И тогда нам, живым, мало не покажется... Уф-ф-ф-ф...
Ну и вот. Живу я давно в Василе. Работаю. Меня уж зауважали. Раньше окликали: “Фершал! Фершал!” А нынче я уж не “фершал”, а “дохтур”. Бабенки в корзинках мне в благодарность за излеченных своих детей и мужей – яйца несут, круги масла, топленое маслице в горшочках... да даже живых кур тащат, безумки! Я их гоню. Пошли прочь, кричу, с вашим маслом! С курями вашими! Я сам, кричу, вот обживусь чуток – и курей разведу!
А мы тебя женим, кричат и ржут, как кобылки, мы тя, старая Борода ты наша, хорошо обженим! Мариечку найдем, славную! Вон Линка-Магдалинка, чем тебе не пара?! Старый до молодого охоч, да?! А то помрешь, Борода, а потомства не заведешь!
Смех смехом, а, думаю, жениться-то и вправду надо. Застарелый я холостяк. Уж заржавел... Женился. Отменную бабу взял. Младше себя на двадцать лет. И, что самое смешное, - марийку. Узкоглазенькую, в бедрах широкенькую, в движеньях – быструю... Она мне все: и в избе чистота, и пироги из печи, и домашнее вино в бутылях квасит, на горлышки им – резиновые перчатки пялит... Ну и деточек нарожала, а как же. Все справно; все честь по чести.
И не для себя – для семейства я пасеку, ульи завел. С Юрой Гагариным, у него тоже пчельник, посоветовался, как оно лучше – и сам ульи срубил, я же плотничать умею. Как на пасеку приду – пчелы вокруг меня недуром жужжат! Я сетчатую маску, намордник такой, на лицо надвину. Пчелки на руки садятся. Рамки с сотами из ульев бережно вынимаю. Пахнет мед сладко, цветами. Для здоровья лучше меда нет ничего. У меня мед бабушки мои покупают; в больнице полежат, я укольчики им поделаю, а потом, перед выпиской, на койку присяду и таинственно так шепчу: “Медка целебного... трехлитровую баночку... не надо вам?” Просияют. “Надо, Бородушка, надо!” Я по дешевке отдаю. У меня пасека большая. И они, старики мои, между собой балакают, я слышал: “Борода-то не лекарствами лечит, а – медом! Он у него – волшебный! Он пчелиное слово знает...” Я в бороду свою усмехаюсь. Пусть верят во что хотят, лишь бы выздоровели. От одного только не выздоровеешь: от времени. Время – вот наша главная болезнь.
Однажды Галя Пушкарева у меня в больничке лежала. У ней давление высокое. Я ей капельницы с кавинтоном ставил, магнезию делал внутримышечно. Десять дней полежала; чую, кряхтит, домой собирается. Ворчит: вы, Петр Семеныч, меня как-то не так лечили! Давленье-то у меня – ух! за двести зашкаливает! А я, дурак, возьми ей и сбрехни: да тебе, Галя, уж в Лосев переулок пора. А у нас в конце Лосева переулка – сельское наше кладбище. Эх она и взвилась! С койки вскочила, как молодая! Глаза сверкают! Кричит: в Лосев переулок?! Ах ты дрянь, Борода! Это тебя увезут прежде в Лосев переулок, а не меня! А я еще на своем юбилее попляшу! И пирогов своих же – поем! С сомятиной! И водочки своей же попью! Самогоночки!
И все было так, как Галя и орала мне в лицо. Стукнуло ей восемьдесят пять лет, и она на свой день рожденья сельчан пригласила, и пирогов с сомятиной напекла, и салатов накрошила, и самогонкой все до ушей залились, и песни голосили! У церкви стояла карета! Там пышная свадьба была! Все гости нарядно одеты... невеста всех краше была...
И я на юбилее том был; и самогон я пил. И по усам моим седым текло... а меня Валя Однозубая все локтем в бок толкала, она уж пьяная была, веселая, уже хорошо кривая, и громко, на весь стол, шептала мне: ах ты, Борода марийска, да какой же ты раскрасавец! Ты седня без жены... проводишь меня? А я ей, тоже громким шепотом, чтобы все слышали: а то как же, провожу, Валюшка, тебя до калитки, а ты дальше сама иди, сама, сама, ножками, ножками. А Валька частушку как заголосит пронзительно! Аж уши у меня заложило:
– Не пойду к тебе лечиться,
Укол ставить не пойду!
А пойду к Кускову Кольке -
Он мне вставит хрен в пизду!
И все старухи за столом как грянули:
– Ух ты, ах ты! Все мы космонавты!
Весело живу. Особенно когда ночью меня с кровати сдернут. У кого роды; за кем смерть пришла. Так и варю в одном котле жизнь и смерть. Если кого не спасу – приду в избу мрачный, жена знает уже, что делать. Выставляет на стол чекушку, тонко нарезанную солонинку. Заваривает крепкий чай. И хохломскую миску с медом ближе, ближе ко мне пододвигает. Я пью, закусываю, ем, горячий чай отхлебываю. И говорю тихо: давай жить, жена, пока живется, и пить будем, и гулять будем, а как смерть придет – помирать будем. И она приваливается к моему плечу, хлюп-хлюп носом, и лепечет беззвучно: да я без тебя, Петюшка, и дня не проживу! Проживешь, говорю, еще как проживешь. И хлоп – рюмашку. И жарко все сразу внутри. И серое, восковое лицо старухи мертвой серой свечой горит перед глазами.
СВЯТАЯ НОЧЬ. СЕРАФИМ
Я не забуду никогда эту ночь. Сколько бы лет я ни прожил еще на земле.
Чистая, теплая ночь. Август. Зеленые изумрудины огней горят на створных знаках. Золотая Рыба сказала мне молча: сегодня. Золотая Рыба сказала мне тихо: нынче ты Меня поймаешь.
А Настя моя сказала мне: Серафим! За тобою везде пойду и всегда. И на ночную рыбалку с тобой тоже пойду, как ходила при Солнце.
При Луне ли, при Солнце – все одно: мы с тобой одно, и это всегда так будет.
Собрались и пошли. Золотая Рыба сказала мне молча: сетью лови Меня, только сетью, благородную, святую Рыбу, не выковали еще злого крючка на Меня, что рассечет Мне губу, раскровянит. Сладь сеть крепкую, добрую, с мелкой ячеей.
Я знал, что делать. Лодка моя готова была, просмоленная.
Настя с собою, если проголодаемся, круглый белый хлеб взяла. А я – бутылку кагора.
Или портвейна сладкого, не помню.
Помню: ее глаза, полные света.
Помню: мы оба нюхали свежий хлеб и смеялись от счастья.
Сеть, свернутую, я нес под мышкой, а Настя держалась за руку мою, как ребенок.
Спустились к Волге рыболовецкой тропой. Узкой и крутой. Настя обжигалась о крапиву, срывала синюю ежевику, кричала: кисло! А я нес сеть и думал: когда нам будут кричать «горько»? Или, если я священник, я жениться не могу, а мог бы жениться до принятия сана?
Зачем, что, почему придумали люди?
Ведь не Христос так заповедал?
Сырой песок. Босые ноги вдавливаются в сырой песок. Меня бьет сильная, крупная дрожь. Колыхает всего. Вроде как в жару я. Улыбаюсь. Настя видит: волнуюсь. Настя шепчет мне что-то ласковое, не слышу.
Я слышу сердце ее, это главное. Пусть лепечет что хочет, ребенок мой родной.
Ребенок мой! Настя! Ты же еще ребенок!
У меня два ребенка: Никитка и Настя. Сердце тает от нежности к ним.
Настя смотрит, как я отвязываю от колышка лодку.
- Настя, прыгай! – тихо ей говорю.
Она входит в воду, и вода ей по колено. Теплая вода, хоть уже Ильин день прошел, и холодные грозы гремели. Еще теплая, и мальки тычутся мордочками в Настины щиколотки, детскими ртами кожу ей кусают, щиплют.
- Это мальков стерлядки в Волгу выпустили, - шепчет Настя и любуется ими, рыбьими детенышами. – Какие красивые… несмышленыши…
- Наша Рыба мудрая, - говорю. – Мы сегодня поймаем ее.
И Настя умолкает. Впрыгивает легко в лодку. Садится на нос. Голову закидывает. Глядит на звезды: их много.
Звезд так много, что я не понимаю, мы плывем по реке или в небе.
Плывем среди звезд.
Пахнет кувшинками. Пахнет рыбьей чешуей. Пахнет прелыми водорослями сеть, я уже развернул ее.
Настя помогает мне, держит конец сети. Другой я медленно опускаю в воду, и тихо, медленно плывет лодка, и брошены в уключинах весла, и только течение лодку несет.
Звезды осыпаются в темную воду. Далеко, в глубине, раздумчиво ходят тени налимов, спят под камнями сомы. Внезапно взбулькивает вода серебряным веретеном: это сильный, мощный молодой язь играет на стрежне. Взмыл над водой свечкой, ударил масленую, черную волну хвостом – и ушел. В прозрачность. В толщу времени. В вечность.
Мы плывем в вечности, и я сознаю это.
Сегодня особенная ночь. Ночь моей золотой рыбалки. Ночь единственной ловли.
Ты же поймал уже счастье свое, ты поймал…
Нет. Ничего не поймал ты. То, что поймал ты, - свободно.
Выпусти птицу. Выпусти рыбу. Выпусти зверя. Выпусти из клетки раба твоего.
Выпусти – и благослови – любовь.
Плывем. И вдруг лодка замирает.
Лодку не несет дальше теченье.
Я гляжу на Настю. Я вижу: хоть вода теплая, пальцы ее замерзли.
Она окунает их в воду.
Вода синяя; жемчужная; цвета болота и малахита; текучая; цвета перловицы на перекате волны; цвета печной сажи, если взгляд погрузить глубже, глубже.
Звезды отражаются в воде, и вода дышит небом.
Мы плывем по небесной Реке. Мы уже в небе. Мы в небе при жизни. Кто дал нам эту благодать?
Господи, благодарю Тебя.
Господи, как мне Тебя благодарить? Что сделать мне для Тебя?
И вдруг Настя шепчет:
- Тяни!.. Тяни!..
И я сам чую, как сеть справа отяжелела, будто чугуном налилась, и лодка стала.
Лодка стоит, как на якоре.
А потом – резко – сильно – неудержимо – кто-то, кто в сеть забрел, заплыл, тот, кто на глубине плыл, лодку потянул, потащил!
- А-а-а-ах! – крикнула Настя, выражая восторг.
Звезды сыпались ей на голову, это был звездопад, падали жемчуга и бериллы, валились сапфиры и изумруды, и я подумал жадно и весело: вот бы из самоцветов этих смастерить оклад для моей Елеусы!
- Стой, - сказал я, - все! Это – Она!
- Кто – Она?..
- Рыба наша…
Охота. Охота. Поймать. Изловить. Вся кровь вскипает. В жилах мужчины всегда охота течет. С жаждой этой невозможно бороться.
А что, иерей – что, сусальный ангелочек?! Что, священник – это такой благостный, аж весь прозрачный, как мед, сладкий праведник?!
Да и нету таких на земле!
И священник – мужик! И в его сердце – мужская жажда! Жажда охоты! Радость добычи! Гнев справедливый на зло, бушующее, кипящее в мире! Страшная, дикая радость победы!
Мощная, бессловесная, слепящая жажда любви…
Мы все люди. Мы все – человеки. Зачем сами из себя мы творим богов неприступных? Ведь и Христос-Бог мужик был! Это Он изгонял из храма, из дома Отца Своего, жадных торжников, что торговали во храме коровами и овцами, тканями и кувшинами, козами и голубями! И одною рукой Он переворачивал торговые столы! И другою рукой плеть поднимал, и яростно хлестал торговцев по спинам! И летели на каменный пол, разбивались кувшины! И кричал Он: вон, из храма – вон уходите! Не оскверняйте торговлей и меной монет, золотых и медных, дом Отца Моего!
И я – священник; и во мне – жажда охоты, огонь в жилах моих.
Огонь: я поймаю! Огонь: я – люблю…
- Тихо, - я сказал Насте, - это Она. Встань на колени на дно лодки!
Настя встала. Я вцепился в край сети. Стал тихо перебирать руками.
- Держи сеть, не выпускай. К себе ближе подтягивай… Я – тащу!
Подтаскивал к лодке сеть. Глаза мои стали видеть сквозь воду. Сквозь небо. Я тащил сеть, и сердце прыгало, и звезды буйствовали в зрачках, звезды остро кололи лоб, рот, шею. Дышал тяжело. Слышал дыхание Насти. Сеть все тяжелела в руках. Я будто чугунный шар со дна тащил. Будто – Луна заплыла в сети, серебряная, круглая, золотая Луна, и тяжкий сверкающий шар Луны мне не вытащить никогда, не закинуть вновь на небо.
Пальцы Насти, вцепившиеся в сеть, побелели. Она слегка приоткрыла рот.
Над черно-синей водой, полной диких пляшущих звезд, быстро и бесшумно летела огромная, с птичьим размахом слюдяных крыльев, с остро поблескивающим синим брюхом, безумная стрекоза.
- Как самолет, - хрипло сказала Настя.
- Тащи! – крикнул я дико.
Мы оба стали тянуть сеть, а в ней – вот, я видел уже – билось, сверкало, играло! Безумье мое! Солнце мое! Огромная Рыба! С лодку величиной! Я никогда не видел таких! Я…
- Я не вытяну Ее! – крикнул я Насте, и мои губы свела судорога сожаленья, боли, прощанья.
Я сходил с ума. Рыба билась. Она теряла Свою золотую чешую, оставляя ее в ячеях сети. Она крутилась, переворачивалась, и я видел ее безумный, вытаращенный, оранжевый, с синим ободом, вечный, зрячий глаз, он глядел на меня, подводный ли, небесный Судия, он глядел и вопил мне, Ее глаз: я знаю все про тебя! Я все про вас знаю, безумцы! Никогда вы не станете мудрыми! Вы всегда будете ловить и убивать, ловить и убивать! И – варить уху в прокопченном котле на берегу, на сыром песке! И – жрать нас, небесных и вечных, жевать, глодать, глотать, потому что вам пища нужна, а не вечное, золотое безмолвие наше! Вы не знаете, что такое безмолвие! Вы не знаете, что такое жизнь истинная! Вы думаете, что живете! А вы – лишь – умираете, умираете, у-ми-ра…
Голова Рыбы поднялась над поверхностью воды. Она глотнула голубой пастью ночной воздух, и губы Ее порозовели, словно там, над заречным лесом, уже разгоралась заря. Звезды густо, пьяно сыпались в Ее раззявленный, орущий рот. Она молча, страшно орала. Плавники Ее топырились.
- Ты, - хрип разрезал мне надвое глотку, - ты… Не знаешь еще…
«Знаю! – прокричал бешеный оранжевый, солнечный глаз. – Я знаю все!»
- Тяни! – высоко, будто предсмертно, крикнула Настя.
Наши руки потянули вместе. Наши руки вцепились в сеть, в последнюю надежду, в последний край, в последний обрыв. Наши руки держали то, что рвалось и вырывалось, что уходило и убегало, утекало навсегда, то, что было не поймать никому и никогда.
И я вдруг понял всем нутром, всем собой, и всем, что билось и сияло надо мной и подо мной: если мы отпустим Ловчую Сеть, если мы не сдюжим, ослабеем, выпустим ячею – то всему конец, и лодка перевернется, щедро и жадно черпнет бортом черную воду, и мы, вместе с сетью, вместе с бьющейся в ней Золотой Рыбой перевалимся через борт, упадем в воду, и Она, Золотая, нас вдвоем сильно, бесповоротно потянет на дно, и мы хлебнем черной густой, как нефть, последней воды, и вдвоем мы на дно пойдем, во тьму, в черноту, в зенит, под пустой, еще никем не расписанный мощный купол, полетим головой вперед в последние, бедные, нищие, жемчужные звезды.
- Тяни-и-и-и-и!..
Лодка наклонилась. Лодка все-таки черпнула бортом глоток воды.
Сухое просмоленное дерево жаждало.
«Жажду!» - выдохнул в муках Господь на Кресте.
Жаждет все. Жаждет тварь. Жаждет древо и мертвый камень.
И Смерть – жаждет – нас.
А мы – жаждем друг друга. И – жизни вечной!
- Тяну-у-у-у-у…
Боже, Господи Боже…
Помоги…
Настя стояла на коленях в воде. Вода хлюпала на дне лодки, плескала в борта. Рыба ударилась сначала золотой, тускло горящей головой, потом тяжелым хвостом о борт, и лодку мощно качнуло. Мы последним усильем потянули, вытянули сеть на себя, на грудь, и Рыба, яростно, весело двигая, биясь всем Своим сильным, гладким сверкающим золотым телом, свалилась в лодку, нам под ноги, под колени, под животы. И мы глядели на Ее беззащитный, серебряный, белый и нежный живот, выносивший бесконечную икру далеких звезд.
- Настя… - Хрип, сип выходил из груди, и радостью, как петлей, сдавило горло. – Мы поймали Ее…
Настя упала грудью вперед, на Рыбу, навалилась на Нее и схватила Ее за жабры, вцепилась в них. Глаз Рыбы горел поднебесно. Хвост бился. Жабры тяжело раскрывались, и внутри них горели костры, мерцал уголь, дышало подземье, куда мы все уйдем.
Я схватился за весла. Уключины скрипели пронзительно, томяще. Я правил лодку к берегу. Скорее. Скорей. Вот лодка торкнулась носом в песок. Я выскочил прямо в воду, Настя тоже, и мы оба подсунули руки под Рыбу и, не вынимая Ее из сети, потащили к берегу.
Вот мы все на берегу. Вот угли потухшего рыбачьего костра у самой воды. Вот лодка наша. Вот наша чудесная ночь.
- Что будем делать с Ней?..
Я глядел в лицо Насте. Прядями горячий ветер заклеил ей щеки и рот.
- Освободи Ее из сети.
Мы выпростали Рыбу из спутанной, в водорослях и мелких рыбешках, старой сети. Жабры вздымались предсмертно. Глаз глядел чистым золотом боли и прощенья.
- Сжарим Ее, что ли?.. Или… может… в золе запечем?.. И всем раздадим, Василю всему… бабушкам… в детский дом отнесем…
- Нет. Слушай меня. Слушайся меня. Делай, что я скажу.
Настя встала передо мной. Ветер бросал по плечам ее косы.
- Ты сейчас наклонишься и поднимешь Ее. Ты. Сама. Одна.
- Я?!.. Я не… Я не подниму!.. Она же тяжелая…
- Для тебя Она станет легкой.
Я коснулся губами губ Насти. Между нашими лицами вспыхнул свет.
- Хорошо!
Настя наклонилась, и Рыба Сама, я видел это, легла, вплыла ей на руки, в руки.
Настя держала Рыбу на руках, как ребенка. «Все живое на руках у девочки, на руках у женщины – дитя, все живое – ребенок наш. Не убий живое. Помоги живому. Спаси живое. Сохрани. Отпусти. Выпусти…»
- Иди к реке!
Настя, с Рыбой, как с ребенком, на руках подошла, босиком по сырому песку, к воде.
- Подними Рыбу на руках! Подними над головой!
Настя подняла Рыбу над головой. Я глядел на золотую чешую, как ошалелый. Вода лилась с Рыбы, капала Насте на волосы, на лицо, на шею, на затылок. Тяжелые золотые капли лились, и золотой свет обнимал Настино лицо. Она стояла, облитая серебряным и золотым светом.
- Зайди в реку! Ну же! Заходи!
Настя, с поднятой над головой Рыбой, зашла в воду по щиколотки. По колено. Шла дальше. Вода подошла к ее животу. Я видел – она поняла меня.
- Ныне отпущаеши, Владыко…
- Раба Твоего!..
- Рыбу Твою…
- По глаголу Твоему…
- С миром!
Настя осторожно, как ребенка, поднесла Рыбу к ее родной воде.
«Да, да, так крестят детей, так я сам крещу во храме, да, вот так… Крещение природы… Крещение Рыбы… Да нет, это Рыба Золотая, Христова, Сама крестила нас…»
Настя разжала руки. Рыба скользнула из ее рук вольно, свободно, беспечно и счастливо.
«Да, а так вот… вот так… младенец выходит из утробы матери рожающей… как рыба… как золотая… золотой ребенок… выплывает в звездный, подлунный мир, и легкими, жабрами красными, глотает воду… воздух… вдох… первый вдох… первый, безмолвный крик – ужаса, отчаянья, радости, свободы…»
Рыба, еще не веря свободе, постояла в воде, как затонувшее золотое бревно, пошевелила хвостом, я видел. Рыба просвечивала сквозь толщу дегтярной воды, как днище перевернутой смоленой лодки.
Река – перевернутое небо. Небо – перевернутая вода. Все течет. Все втекает и вытекает. Все дрожит и мерцает и льется. И нет этому конца. Вот как все просто. Все так просто. А все – боятся.
И Рыба, плеснув темно-золотым хвостом на прощанье, стала погружаться, стала тонуть, уходить, исчезать. Растворяться в предвечной тьме. Таять в смоляных, черных водах земли.
«Рыба гроба нашего… Вечно плывущая Рыба – Гроба Господня… Плыви… Уноси наши грехи, наши жизни… Плыви к Воскресенью, плыви к Рожденью, к первой, золотой Звезде, к Короне Трехвенечной…»
Утонула. Ушла. Навек. Навсегда.
Настя обернулась ко мне всем телом, порывисто, и я увидел ее лицо.
Я знал, что мы думали с ней одно и то же.
Ничего не надо было говорить.
Настя вышла на берег, а я шел по сырому песку к ней. Она вплыла в мои руки. Я – вплыл в ее руки.
Я положил ее спиной на холодный сырой песок. Я вплыл в нее горячей скользкой рыбой, и ее язык рыбой вплыл в мой рот, и наши лица, тела и чресла бились и играли, как рыбы, на мелком влажном песке, и мы измазались в песке, и мы вкатились в теплую воду, и мы стали двумя Рыбами, розовыми под огромной Луною, железными, бедными, медными, серебряными, золотыми, Рыбами Левиафанскими, Рыбами Иерусалимскими, Рыбами Царскими, Окуневскими, Налимскими; и синие царские водоросли, Божьи травки, облепляли нас, и горели щеки и глаза наши рыбацкими углями, и не сплели еще в небесах сеть такую, чтобы нас поймать; и река катала нас и колыхала в ночной колыбели, и мы рождались и умирали, и из нашей игры, из игры двух человечьих Золотых Рыб рождался мир, что никогда уже не мог умереть, и во рту жена моя, Рыба, держала жемчужину вечной улыбки, и во рту я, Рыба, муж ея, держал раскаленный алый, кровавый рубин, уголь живого костра светлой любви и смертной тоски.
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Перед богослужением праздника Преображения Господня я пошел помолиться один, на бугор, называемый в Василе Чайкиным.
Чайкин бугор, может, здесь когда-то чайки гнездились?
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, - припомнил я слова Господа, - а Сыну Человеческому негде приклонить голову…» Тебе-то что сетовать, грешный отче Серафиме, сказал я себе сердито, у тебя и крыша над головой есть, прекрасная, крепкая деревенская изба; да еще ты и сам зверей, скотину разную в дому держишь, ей приют даешь…
«Не ты, а Иулиания, - оборвал я себя. – Она все! Она! Без нее бы ты, брат… погиб бы, не сдюжил… На себе ведь все баба, на своем горбу хозяйство тащит… А ты с ней все так сурово… Нныче Преображенье. Ну, преобразись, изменись к ней. Взгляни на старуху благосклонно. Ведь из кожи матушка лезет, чтоб тебе угодить…»
Заволжские дали опахивали лицо синим древним веером. Вот так и Господь стоял на горе над рекой, и хотели Апостолы разжечь костры, чтобы осветить ночь… а тут вдруг – свет с небес яркий, мощный, как ливень хлынул… Они на землю и попадали в ужасе…
«Да, Ты показал им силу Свою. Ты показал им истинное лицо Свое. Какая здесь тишина! Какая тишина в мире! Над миром… Это только в деревне. В городах – там безумье. Там из тебя всю кровь выпьют, высосут… ты о тишине забудешь, как и не было ее вовсе… умирать будешь под грохот колес, под крики и ругань площадную…»
Я раскинул руки. Ветер пошевеливал волосы. Отросли непомерно, бесстыдно, надо бы остричь. Опять – Иулиания? Ну да, опять она. Возьмет овечьи ножницы… пострижет…
«Она тебе как жена», - внезапно сказал я себе.
Ожгло изнутри. Замутило. «Какая она тебе жена?! Тебе – Настя жена!»
И снова этот голос, строгий, насмешливый, учительный, будто бы и не мой, ясный и дальний:
«Настя тебе не жена. Настя грешная возлюбленная твоя. Она даже слова тебе не давала».
«Но я люблю ее! И она любит меня!»
«Ну и что. Любовь – это одно. Брак – это другое. Помни это. Знай это».
Я упал на колени на землю Чайкина бугра, на подсохшую, подвяленную жарой августовскую траву. Дикая яблоня со стуком роняла близ меня на землю крупные красные, полосатые яблоки. Я распластался на выжженной траве, совсем как они, Апостолы, на Фаворе. Я царапал ногтями глинистую землю. Я прижимался к земле щекой. Муравей залез мне в ноздрю. Я вырыдал:
- Господи! Дай мне ее… навсегда!
Яблоки падали в траву. Дали синели могуче. Праздник шел на меня, как огромная по реке волна.
И там, в церкви, когда началась служба, когда звенели во мне слова древних песнопевцев: «Мрак законный, светлый Преображения прият облак, в немже Моисей и Илиа бывше, и пресветлыя славы сподобльшеся, Богу глаголаху: Ты еси Бог наш, Царь веков!» - когда мы с Володей взахлеб пели солнечный стих: «Солнце убо землю уясняя, абие заходит… Христос же со славою облистав на горе, Мир просветил есть!..» - я все еще лежал на животе, на горячей земле, там, на Чайкином бугре; и облака складывались надо мной в блистающее в небесах, облаченное в белый виссон Тело Христа, и поднимал Он руки, ярче костра пылая, и горел между туч розово-алый, как ягода малина, хитон Моисея, и развевался по звездному ветру сапфирный гиматий Илии. И шептал я, на земле распятый грешник, горящему в небесах Царю своему: прости меня, Боже, за все, прости, прости меня.