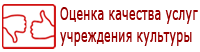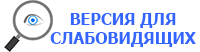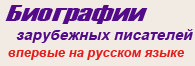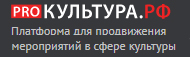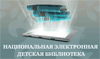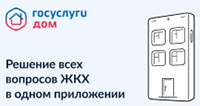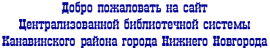
12
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
СЕВЕРНАЯ СТЕНА ХРАМА. ВОСКРЕСЕНИЕ. ХРИСТОС И МАРИЯ МАГДАЛИНА
- Господи!.. – Снег бил ее по плечам и щекам, наваливал ей на плечи белые стожки. Снег хотел погрести ее под собой. И чтобы ее больше никто никогда на земле не увидел. – Господи!.. Я принесла…
Она упала на колени в снег. Она утонула в снегу по грудь. Отряхиваясь, выбралась из сыпучей, ледяной белизны. Отцовский тулуп не спасал от мороза. Она дрожала. Грела руки в карманах.
В карманах лежало то, что она притащила сюда, ко Гробу, детские подарочки мертвому Ему: монетки и медные рыбки, старые, уж выдохлись, духи в пузатеньких флакончиках, а в одном пузырьке, о, чудо, это священник деревенский дал ей, грешной, ну, она хорошо его попросила, он и сжалился, - немного пахучего мира святого, которым иногда плачут святые иконы, ну да, отлил ей в пузырек настоящего мира!.. для того, чтоб она им – любимое Тело полила… освятила…
- Господи, - шептали сведенные морозом, жесткие губы, - Гос-по-ди…
Ограды не было. Еще не успели поставить. Она стала раскапывать руками, как крот роет землю костяными лапками, слежалый снег. Задохнулась быстро. Взмокла. Скинула тулупчик. Под тулупчиком она была одета в холщовое, чиненое платье. Это было платье ее убитой матери. Она носила его матери в память. Какой год шел от Сотворения Мира? Она не знала. Она училась в школе, но все забыла.
Она забыла все, и только помнила: разрыть Его Гроб, Он тут, под снегом, и умастить святым, драгоценным миром.
- Нет, не здесь я рою… - сказала она себе плачущим ртом. – Не здесь!.. Я не знаю, Господи, где Ты… Я – Тебя – потеряла…
Села в снег и заплакала.
Громко заплакала! Зарыдала!
Девчонка, а зарыдала по-бабьи…
Ворона, с верхушки опушенной жестким синим инеем, высоченной, поднебесной березы, смешливо, нагло каркнула над ее нагой головой.
- Я все равно Тебя найду! – крикнула она.
За ее спиной послышался морковный ли, капустный хруст. Шаги по снегу.
Да, режут ножом морковь… острой тяпкой – в колоде – капусту крошат… солить… и – лук… И глаза, как от лука, слезятся.
Клюквы нет, забавы болотной, кислушки, красноглазки, для соленой капусты…
Она быстро повернулась. Волосы облепляли ей вспотевшее лицо.
Перед ней стоял человек. Он был странный, этот человек. На его плечи была накинута старая овчина, а сам он, под овчиной, был нагой. Голый был! Как из бани. Она покраснела, отвела глаза. «Полоумный, - подумала, - или из сельской больнички сбежал… или – до чертиков водки напился… шубу-то нацепил – да на мороз – да сюда, топ-топ, на кладбище… Кого-нибудь помянуть… Шкалик, небось, у него в кармане… Жарко, видишь, ему… Апрель, а снегу-то намело… Ранняя в этом году Пасха…»
- Эй! – сказала она в сторону, чувствуя, как пышет стыдливым жаром ее лицо, как колет его мороз ежовыми иглами. – Вы это, уйдите отсюда! Я тут… одну могилу ищу… свежую… позавчера хоронили…
- Кого? – спросил голый мужик в овчинном тулупе, и его голос обжег ее.
Она услыхала голос! Но боялась поверить!
- Моего… любимого…
- Встань, - она услышала над собой. – Встань!
Она вскинула глаза. Они плыли, умалишенными, ошалелыми рыбами-сорожками уплывали от нее, она никак не могла поймать в реке слез свой взгляд, чтобы остановить его, чтобы – узреть, узнать.
Но она – узнала.
И повалилась на колени в снег.
Колыхались чугунные ограды. Шелестели, поджигались бешеным, веселым ветром сухие цветы и чудовищно-яркие венки, и картонные зеленые листья скрипели, и проволочные стебли крутились, и безумные, кровавые бумажные цветы вяли и скалили алые пасти. Светились конфетные фантики на белых могильных курганах. Крошево яичной скорлупы и пустые водочные бутылки мерцали на слоновьих, верблюжьих посмертных спинах. На кольях оград торчали огарки свечей, крючились поросячьи хвосты фитилей. А вон печенье лежит. А вон – шкурка от мандарина, какая яркая, золотая… А вон – кто-то, в слезах – рюмку забыл, да не одну, три целых рюмки в ограде валяются… морозные, хрустальные… мертвые… Пили, поминали…
Все торчало чугунными остриями. Все качалось, как пьяное. Все летело в лицо железным, кладбищенским снегом. Все умирают. Всех чугунная ограда ждет. И далеко не всех ждет память – родных, близких, равнодушных, забывчивых, нищих.
- Я воскрес, - сказал Он и протянул к Магдалине руки.
Она рванулась к Нему.
- Ты живой!..
Руки сами искали – коснуться.
Руки ощутили страшный жар впереди. Ладони ощупывали пламенный воздух. Золото звездного огня текло между дрожащими пальцами.
- Не касайся Меня, родная… ибо Я… еще не восшел… к Отцу Моему…
Она закричала отчаянно, смертно:
- Господи! Коснись мя, Господи!
И Он встал на колени рядом с ней. И колени Его ушли глубоко в снег.
И полился снег из-под Его ног громкими весенними ручьями.
И протянул Он руки. Руки Его дрожали. Он протянул ей руки для объятья, а обнять ее не мог. Боялся, что она сгорит. Что сожжет Он ее объятьем Своим!
И тогда Мария Магдалина звонко, на все зимнее кладбище, крикнула Ему:
- Обними! Прижми меня к сердцу Своему! Ведь Ты так учил меня: не бойся! И я Тебе говорю нынче: не бойся!
И тогда Господь протянул ближе к Марии Магдалине руки Свои и крепко, крепко обнял ее.
И стали они сдвоенным красным, золотым, живым пламенем над свежею снежной могилой.
БОЛЬНИЦА. СЛЕПОЙ. НАСТЯ
Я не могла остаться жить в Василе. Собрала вещички в чемодан мамы покойной – и ушла из дома.
Тяти не было дома. Тяте я оставила на столе записку: «ТЯТЕНЬКА, ТЫ НЕ СЕРДИСЬ НА ДОЧЕНЬКУ СВОЮ. ДЕНЕГ НЕМНОГО ВЗЯЛА В КОМОДЕ. Я ОТРАБОТАЮ. НА УСТРОЙСТВО НА НОВОМ МЕСТЕ МНЕ ХВАТИТ. В ВАСИЛЕ ЖИТЬ НЕ СМОГУ, НЕЛЬЗЯ ТУТ МНЕ ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО БЫЛО. ПРОСТИ, И ЦЕЛУЮ ТЕБЯ КРЕПКО». Оставила – и думаю: а вдруг так рассердится, что напьется – и дом подпалит! Скажет: женку убили, дочка вон из дома, зачем жить тогда?
Одному… трудно, да…
Но я все равно ушла. Не могла я больше тут.
Стою на пароме, ветер волосы развевает, холодно уже, осень, зима уж надвигается, а я уехала из дома в одной курточке да в полусапожках, даже свитер теплый не взяла, и шапку вязаную не взяла тоже. Деньги тятькины жгут карман. Думаю: куда податься? В Воротынец? Уж больно близко. Десять километров от Воротынца до Лысой Горы автобусом да три километра через Суру на пароме – меня от слухов да от позора не спасут. Надо дальше уезжать. Далеко. А на далекий билет – денег нет.
Ну, до Нижнего или до Чебоксар мне всяко-разно хватит. И еще на недельку останется, чтобы угол снять, да еды немного прикупить. А дальше что? Милостыня? Или – да дороге голосовать, под водителя ложиться?
Нет уж, думаю, никогда. Устроюсь работать! Неужели не устроюсь! Другие устраиваются, а я-то не устроюсь!
Доехала до Воротынца. Слезла на автостанции. Ветер шелуху от воблы по асфальту метет. Торговки на рынке рыбой торгуют: копчеными лещами, коричневыми, страшными, копчеными сомами, те еще страшнее, и усы у них копченые, и жир с хвоста каплет, - вяленой чехонью, тоже такой жирной, сквозь нее глядеть можно, как сквозь янтарь, а еще воблой сушеной, тощей, да вкусной, и орут: «Купите!.. Купите!.. С икрой!.. С икрой!..» - а еще судачками свежими, в корзинках больших, круглых, а еще – мелочью всякой пузатой: красноперкой, сорогой, подъязками, - для котов. Котам-то тоже рыбку грызть надо.
Гляжу на рыбу, на торговок, на корзины, на сомов, на лотках разложенных, как толстые горелые бревна, - и вдруг сердце сцепило так! Больно!
Вспомнила: Серафима… И его Рыбу Золотую…
И как я с ней на руках – ночью – на берегу – стояла…
Зажмурилась. Прогнала виденье прочь. «Пошло, пошло вон, сгинь», - шептала себе.
Торговки на меня таращились – наверно, за дуру принимали.
И я спросила их, вдруг так спросила, а ведь не хотела:
- Тетеньки, скажите, пожалуйста, где здесь больница?
Я ведь не хотела видеть никакого Пашку. Никогда! Никогда больше в жизни! Не хотела!
Одна махнула рукой над копчеными сомами:
- Эх! Вот так иди! Прямо! Все прямо и прямо! Не заблудишься!
И я пошла. Все прямо и прямо.
И не заблудилась.
Пришла в больницу. Спрашиваю сестер в приемном покое: у вас лежит больной Павел Охлопков? Лежит, отвечают. Его в Нижний Новгород, в областную больницу, возили, на операцию, и там он три недели лежал, а теперь снова к нам перевели, на выздоровление. А вы кто ему, спрашивают?
Я замялась. Не знаю, что сказать. И как-то губы сами вылепили: жена я ему.
«Молоденькая какая жена! – молодые сестрички смеются. А одна, старая, глядит на меня зорко, черно, как ворона на корку хлеба зимой. – А что ж вы так поздно-то к мужу слепому являетесь!»
Слепому, слепому, слепому, билось во мне.
«А я это, я в отъезде была, в срочном», - вру, и красная вся, и понятно, что вру. Хмыкнули. Здесь сидите, сказали, сейчас вас к нему в палату проведут.
Провели. Я порог-то палаты переступила – и сразу его увидела.
Лежал вверх лицом. Синяки уж с лица сошли. Оба глаза были перевязаны чистыми белыми бинтами. Такими белыми, что у меня в глазах заболело, и я сама тоже чуть было не ослепла.
Почему оба глаза, глупо думаю, почему оба-то глаза, почему…
Подхожу. Тихо так подхожу. А он все равно услышал. Губы разлепил. Говорит:
- Кто?
Я села на табурет около койки его. Ничего сказать не могу. Губы как ватные стали. И голос пропал. Почему оба глаза, все думаю, да что ж это, оба…
- Сестра, что, укол? – тихо так спрашивает.
Руки у него поверх одеяла лежали. Взяла его руку в свои.
- Это не сестра, - говорю. – Это…
А он узнал. Голос мой узнал.
- Настя, - прохрипел, как пьяный. – Настя-а-а-а…
Бинт, которым глаз его левый перевязан был, влагой пропитался. Это он заплакал. И руку мне жмет.
И я говорю, а губы все мокрые, и я не понимала тогда, что я тоже плачу:
- Пашка… Пашенька… Ты…
Он все шептал: что?.. что?.. – и крепко, крепко жал мою руку. Крепко, до боли.
И рот его дергался и улыбался под слепыми бинтами.
Я не выдержала. Язык мой болтал это все помимо меня. Кто это говорил за меня? Я до сих пор не пойму. Не знаю. Но все получилось вот так. И все. И что теперь? Назад время-то не отмотаешь, как тятька мой говорил.
- Паша, я это… - сказала я ему и тоже пожала ему руки. – Я буду за тобой ходить. Ты выйдешь из больницы, и я выйду за тебя замуж.
А он все шептал, шептал быстро, без перерыва: что?.. что?.. что?.. что?..
- Мы поженимся, и я буду твоими глазами, - сказала я громче, и слезы полились сильнее.
А он все крепче сжимал мои руки, еще немного – и сломал бы мне пальцы.
- Что ты сказала?.. Что?.. Что?.. Повтори… - прошептал он мне.
И я наклонилась над ним, низко-низко, так, что мои губы касались плотных, толстых бинтов у него на глазах, и повторила громче, как просил он:
- Пашка, швы заживут, тебя выпишут, и мы поженимся. Я буду с тобой. Навсегда буду, понимаешь?! Глазами твоими буду!
И слезы капали, капали, лились с моих щек и губ на его щеки, на белые бинты.
На слепое его лицо лились.
И все больные в палате молчали, притихли, наверно, слушали нас, как мы тут друг другу клянемся, а может, они просто спали все, дрыхли, суслики бедные, не проснулись еще после тихого часа.
ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ. СЕРАФИМ
Я уезжал из Василя под дулом винтовки. Очень просто все было и страшно.
Не уезжал: убегал.
Только два дня я в нашем с покойной Иулианией доме и пожил. Лишь два дня всего. На третий день в дверь постучали. Я никого не боялся в своем селе, всегда сразу, с молитвой, открывал, кто ни постучит, в любое время дня и ночи. И тут – открыл.
На пороге стоял Петр, брат Пашки Охлопкова, ослепленного мною.
Петр держал в руках винтовку. Ее дуло глядело мне прямо в лицо.
Я не отвел взгляд.
- Беги, поп, - отчетливо, яростно выдохнул Петька Охлопков. – Беги, покуда цел! А то пулю тебе в твое поганое зевло всажу. И не одну!
- Хорошо, я уеду завтра, - я старался говорить медленно и спокойно. – Завтра.
- Не завтра, а седня! – хрипло крикнул Петька. – Щас! Собирайся! Живо!
- Дай зверям хозяина нового найти, - я, глядя Петьке в глаза, рукой показал на Фильку и Шурку, они жалко жались к моим ногам, о колени терлись головами.
- Корова твоя уж у хозяйки новой, - жестко выплюнул Петька, продолжая держать винтовку, как и держал. – Собака – у меня. Хорошая собака, умная. Не пропадет. Попугай сдох. Кошки живучие. Они сами себе новый дом найдут. Быстро! Собирайся!
Он тряханул винтовкой в воздухе. Сердце мое колотилось молотом.
- Петька, как брат?
Зачем я спросил!
Он как взбесился.
- Бра-а-ат! – завопил. – Бра-а-а-ат! Еще слово скажи! Еще вякни! Да я ж тебя разражу щас! Ты, поганец! Погань такая вшивая! Убил брата-а-а-а! Уби-и-и-ил! Еще и вякат! Где тряпки твои! Кидай все в кучу! Потом разбересся! Выметайся!
Я собирал свои вещи под дулом винтовки. Я старался, чтобы руки мои не дрожали, но они тряслись все равно. Как у старика.
Я бросал одежду и вещи в старое кресло, что стояло посреди избы. В нем любила сидеть Иулиания. В нем любил днем задремывать, наигравшись, засыпать Никитка.
- Быстрей! Копун! Мрр-р-разь…
Я выволок, бросил к креслу чемодан.
- Гн-н-нида…
Я медленно укладывал вещи. «Руки, не тряситесь, - говорил я рукам, - руки, не тряситесь».
Замки с громким щелком застегнулись. Вся моя жизнь застегнулась на все замки. Уместилась в одном старом чемодане.
- Ну?! Все?! Пошел!
- Господи, прости ему, ибо не ведает, что творит…
- Ведаю! Ведаю! – орал Петька. – Еще как ведаю! Выгоняю тебя к чертям собачьим! Из нашего села! Дрянь! Убийца! Больше не будешь девчонок наших топтать! Людей наших зренья лишать! Засудят тебя в городе твои! Засудят! Там уж знают все-о-о-о! Знают! Знаю-у-у-ут!
Я подхватил чемодан. Шагнул, ряса взлетела впереди шага и мазнула Петьку по ногам. Он, с винтовкой, отскочил от меня, как ужаленный пчелой.
- И ряса твоя поганая! И сам ты весь поганый! И место тебе – в аду! Слышишь! В аду-у-у-у-у!
«Даже к Иулиании на могилу не сходил, - билось, проносилось в голове. – Не узнал, где Никитка… Настя где…»
И – молнией ударило, не в голову, и по всему живому столбу, по хребту, и в землю огнем ушло:
«Церковь моя… Росписи мои… Иконы мои, кровные, намалеванные… Старухи мои, старики… Паства моя… Девочки мои… на клиросе… Елеуса моя, сердце мое… Не попрощаюсь…»
Зажмурясь, через порог переступал. Ключом дверь не закрывал – все равно дом вскроют, откроют. Пусть открытыми будут двери мои.
- Шагай, шагай! Пшел!
- Повернусь – убьешь?
Я не мог не спросить так. Раззадорило меня.
И Петька крикнул:
- Убью! А то!
И я шел, сжимая ручку старого чемодана клещами мертвых пальцев.
И он шел за мной, с взведенным курком, с наставленной на меня старой винтовкой.
И я молился: Господи, гнев лютый и справедливый отведи от него, усмири раба Твоего Петра, Господи, утешь его во имя Твое.
Он так и шел со мной, Петька Охлопков, по васильской пустынной дороге вниз, к Суре, до самой пристани, до парома. Только когда к парому подошли – опустил винтовку.
Я не оборачивался. Не глядел на него. Я видел краем глаза, как он вытащил из кармана рубахи сигареты. Я поймал дым ноздрями. По холодному небу летели, рвано, нищенски полоскались в корыте осени чреватые снегом тучи. Паром подплюхал, ткнулся железным трапом о каменистый берег. Я шагнул на трап и взошел на паром. Я не оглядывался. Никогда не оглядывайся, душа моя, никогда не оглядывайся назад, говорил я себе, не гляди назад, не плачь по тому, что за спиной оставил, в бедах не сетуй, в страданьях не отчаивайся, помни скорби Иова, душа, и помни великую веру его; не оглядывайся, душа моя, иди вперед, лети, молись, радуйся.
Радуйся. Хайре. Гелиайне…
- Вы билет-то будете брать? – весело спросила меня, высунувшись из окошечка, кудрявая, как овечка, кассирша с Лысой Горы.
Я взял билет. Его у меня из рук вырвал ветер.
Ветер, холодный осенний ветер бил мне в лицо. Сура морщилась железной, ледяной, зябкой рябью. Под бортом парома вздувалась серой, желтой пеной тяжелая вода.
РАССКАЗ О ЖИЗНИ: ВЕРОЧКА, ЖЕНА БОРИ ПОЛЯНСКОГО
Х-ха! Борька! Х-ха!
Курить мне не перекурить сегодня! Пить мне не перепить, да до самого утра-а-а-а! Ах-х-х, водочка-селедочка, селедочка под водочку, самое оно в мороз... спа-си-бо. До краев стакан! В самый раз. Ах, в-в-вы!.. Вы считаете, дамы пьют только из рюмочек?.. Я! так! не считаю. Я считаю так: раз-два-три-четыре-пять, выш-шел зайчик... ик!.. погулять... Вот и я так же: вышла когда-то, хрен знает когда, давненько уж, погулять... на Северную проходную... на проспект... а тут он! Жопа с ручкой! Борька Полянский, не пришей не пристегни, размазня унылая! Муж мой бывший! С Боженькой, ети его мать, под ручку...
Ну, меня увидел. Ну, я девчоночка в соку была. Ну да, красивая! Ну, я и щас красивая! А вы как думали?! Я красивше, чем эта, как ее, Мэрлин Монро! Чем эта, ну, модная-то такая, ну... а! Эта! Милла Йовович, стерьвоза! “Пятый элемент”, да! Классный фильмец. Рыжая краля такая. Она еще, блин, и Жанну Дарк играла! Я б тоже Жанну Дарк сыграла! Да меня никто в кино, бляха, не берет! А я – могла бы...
Ну и че, с Автозавода?! Вон, Наташка Водянова тоже с Автозавода! И че?! За лорда английского вышла! За лорда, мать-ть-ть... За лорда! А я – за морду! За морду Борьку, пионерскую зорьку!
И че я с Борькой тем видела в жизни?! Че?! Да ниче я с ним не видела. Если б я сама не умела веселиться – хрен моржовый с ним увидела бы, а не жизнь! Жизнь – это веселье, нам она на веселье и дана. Вино, вино-о-о-о, на радость нам дано-о-о-о! У меня отец пил? Пил. Мать у меня пила? Пила. Брательник у меня закладывает за воротник? Да еще как! На тройке не обскачешь! Мне было шестнадцать, Борька меня подцепил. И че я с ним промяться согласилась? Че меня разобрало? Ну видела ж, видела! Скушный тип! Чеснок типичный! И бедный, видно за версту! Локотки куртяги штопаные! Стрижка поганая, так только менты стригутся! Ну че я с ним тогда по проспекту поволоклась?! Нет, ну точно муха цеце меня куснула! Да не, просто скушно было... ну, захотелось над парнем покуражиться... ну, видела я, что он почти что нецелованный... чистенький такой... ага, чистенького захотелось... чтобы мыльцем пахло... бля-а-а-а-а...
Нале-э-э-эйте, налейте, налейте бока-а-а-алы... так Борька пел! Это из оперы! Из жоперы, точнее, х-х-ха-а-а-а! О-о-о-п! Мерсите, и больше не просите. Ни больше ни меньше. В самый раз. Селедочку... на вилочку... и – опрокинем!.. и-и-и-и...
...ух-х-х-х, отлично пошло. Так на чем это я?.. А, да. И вот шатаемся мы по проспекту Ленина. И в тень от афиши зашли – я тут его сама и давай целовать! Ух-х-х-х, вкусно я целуюсь! Никакой, бля, закуски не надо... да-а-а-а... Ну, Борька и влип. Влип, чеснок, как муха в мед! От меня разве уйдешь?! Не девка я была, а персик! Я и щас... пе-э-э-эрсик... пух только повылез... лысею, да, а волосатая шмара была...
Он мне предложение сделал в тот же вечер. Ну, думаю, мозги у парня набекрень! А про себя думаю: уж замуж невтерпеж! Согласие дала. Тогда же! И очень хохотала! Ночь теплая была... Борька меня спрашивает: ты это че хохочешь, как ненормальная?! А я... а я... ха-ха-ха!.. ему: ты меня, сусличек нежный, еще узнаешь! Еще надоем я тебе! Ну вроде как его предупредила. “Никогда не надоешь, - губами трясет, - это я тебе надоем, а ты мне – никогда...”
Так он, зануда, мне в первую же ночь надоел! Не люблю я таких! Занудных! Правильных! Они и обнимаются-то, мать их ети, пра-а-а-авильно! Как у доски стоят! Любить так любить, гулять так гулять... стрелять так стрелять, мать-ть-ть!.. а не так: сюси, пуси, как люблюси... Такой бабе, как мне, нужен мощный мужик! Крутой! Чтоб меня – в бараний рог гнул! А Борька?! Он сам как баран! Веди его и стриги! Или – прямиком – на бойню! Он и под топором не пикнет. Все такими же бараньими глазенками своими, благостными, будет зырить... и шептать свои пуси-мумуси...
Загуляла я после свадьбы быстренько. Не то б – с ума сошла! Вот так всю жизнь?! С этим... боголюбом?! Накося выкуси! Жизнь – веселое дело! А не погибель! Жизнь – это: пей! Гуляй! Веселись! Все равно все помрут! И надо успеть! Успеть! Взять от жизни все! Выкушать – все! Выпить – все! В койке перепробовать – все-о-о-о-о... до дна достать... и даже глубже...
А разве с таким Борькой повеселишься? Чем я больше разнуздывалась – тем он смиренней становился! Ну это ж разве мужик! Я к любовнику ухожу, дочку забираю, чемоданчик сложила, говорю как режу: “Ухожу к любовнику”. А он смотрит так на меня, глаза такие... покорные, противно, аж сблевать тянет. И – ни слова мне. Ни слова! Ну разве это нормально?! А потом вопрос задает: он, мол, тебя любит? Ну, любовник-то? Ну разве так мужик нормальный спросит?! Мужик нормальный – развернется – и с ходу тебя р-р-раз! - и в торец! Фингал под глазом, да еще ногами по ребрышкам походит – вот тебе и весь к любовнику поход! Да еще и чемодан ножищами в хлам раскурочит, истопчет! Вот это – дело! А этот... Сало свиное, суп он гороховый, Борька! Режь его ножом! Из ложки хлебай! Ссы ему в глаза, и все будет Божья роса! Голову только повесил, как флаг под дождем, и блеет: лишь бы ты была сча-а-астлива, Ве-э-э-э-рочка... Вот какое тесто пресное. Преснятина. Вот я сама с ним – перцем-солью и стала! И водкой крепкой стала. И старкой. И – наливкой полоумной...
...дочка, доченька... Умерла ты. Одну тебя и жалко. А так мне больше ничего не жалко. Это он сволочь, он, Полянский. Это он тебя уморил. А не я, не-э-э-эт! Это он меня так достал, так достал, так... что я с тобой пошла гулять, и-и-и... и загуляла... загуляла... Я – домой не хотела возвращаться! К нему! К зануде! Видеть его рожу не хотела! Гуляла с тобой, да, до посиненья! Я-то сама до костей тогда промерзла! Промерзла-а-а... а-а-а-а... а-а-а-а... Налейте, налейте бокалы... Да, до края... а можно – и через край... я отхлебну... и – без закуски... И – чокаться не будем... потому что за помин души... доченькиной душеньки... если за покойников пьют – не чокаются... Я встану. А-а-а-ах! За дочку – я встану. Я встану и выпью за дочку стоя! Вот так! Вот... а-а-а-ах!.. чуть не упала... Не ловите меня, еп вашу мать! Не держите! Я и так стою хорошо! Я!.. За дочку!.. Стоя!.. Царствие ей, блять, небесное... девочке моей... сладенькой... Она ангелочком летает там, да!.. А я – сука. Ну и что?!.. Ах, я вас по руке ударила?!.. И с вилки грибочек, на хрен, соскочил?!.. Вон, вон он прыгает, скользкий!.. в угол укатился... Так и мы укатимся... обронимся с вилки... упадем на пол... и нас – не поднимут... и не съедят... а грязной тряпкой утром замоют... в поганое ведро... в ведро-о-о-о... Я ж говорила вам: эту – я без закуски! Я крепкая. Я знаете сколько выпить могу? Вам и не снилось. Да и мне самой не снилось, ха-а-а-а-а! А Борьке моему что снилось? А ему ряса все снилась. И крест. И Боженька на иконке. Слушайте, выпьем за Борьку, а?! В селе далеком приход у него. Я чуть попадьей не стала, да-а-а-а! Вот бы цирк был, да-а-а-а! Верка – попадья-а-а-а! Попадья-а-а-а-а! Попа... дья-а-а-авола я, вот я кто... Ух-х-х-х... да налей же еще, не видишь, хочу, хочу-у-у-у... чтобы волком не завыть – глотку залью... водочкой?!.. нет, бля, расплавленным свинцом... он, говорят, такой же серебряный... ртутный...
ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ САНА. СЕРАФИМ
Я после казни своей церковной вышел на Откос. Ноздрям воздуха не хватало. Жизни воздуха не хватало. Думал – задохнусь. Ловил воздух ртом. Глядел на реку.
Река расстилалась внизу передо мной.
Не одна: две реки.
Ока впадала в Волгу. Это город мой, где я родился и вырос, это город мой, больно и железно билось во мне. Будто в ржавую рельсину кто-то бил звонким молотом, держа рукоять в холодных кулаках. Ока впадала в Волгу, а я выпал из жизни, и так тяжело в нее опять втечь, впасть, потечь с ней одним потоком, одним слепым потоком, одним… слепым…
Слепое, в крови, Пашкино лицо опять заслонило мне свет, серый морозный день. «Я же покаялся! – крикнул я оголтело сам себе. – Я – покаялся! Я – наказанье принял! Я…»
«Что ты все: я, я, я, - сказал иной голос во мне, тихо и ехидно. – Ты – о Боге подумай. О вере своей. Не поколебалась она? Что и кого ты предал? Бога? Людей? Себя? Что ты наделал-то, отец Серафим… нет: Борька Полянский!.. а?..»
И не было мне ответа. Летели по небу и пролетали его навылет мышастые, серые, волчьи тучи. И серые, слепящие, рвано-желтые раны разверзались над моей головой, и желтая кровь текла из них, и желтыми безжалостными ножами прямо в лицо мне летели лучи закатного Солнца; над вымерзшими, мертвыми лугами и огородами далеко за Волгой, на Бору, и за Окой огромный огород серого, страшного города подымал к серым ледяным небесам черную, сизую, белесую ботву клубящихся едких, слепых, ядовитых дымов.
Я стоял и дышал отравой черной, железной жизни. Я, лишенный Бога и лишенный сана, снова был просто человек, просто мужик, просто – неудачник Борька Полянский, недоучка, поп-расстрига, несчастный отец, потерявший сначала дочь, потом сына, разведенный муж, - я стоял на Откосе над двумя ледяными реками, Волгой и Окой, с убитой любовью в груди, и она была такая тяжелая, мертвая любовь, такая чугунная, такая… железная, ледяная, а кровь по ней текла – живая, горячая… и дымилась, дымилась…
Дымились черные высокие трубы за рекой. Ветер отдувал мне волосы на голой голове. Завтра постригусь, думал я, завтра в парикмахерскую пойду, а потом думал: а монеты-то у тебя в мошне звенят? Зарплату священника мне уж приход не выплатит больше. Все, отслужился, отец.
Железный смех судорогой свел мне рот. Я отсмеялся беззвучно, горько и закрыл рот ладонью. Ветер ударил в ладонь, как в бубен.
Мой город когда-то звался – Горький. Его так назвали в честь пролетарского писателя Максима Горького. Отец Максим, к тебе, что ли, в Карповскую церковь съездить? «Я родился в Горьком городе, а умру я в городе Нижнем», - так читал стихи один наш безумный мальчик, поэт, на вечеринке в университете… Мальчик брился налысо, как скинхед, мальчик презирал весь род людской, мальчик думал: я гений, и я один, а все вы – бездарности, падлы и твари…
Тварь… Тварь Божья… Тварный мир… Творец… Сотворить…
Сотворить… в котле сварить…
Есть хотелось. В животе урчало. Я вспомнил янтарную стерляжью уху Иулиании – и громко, как ребенок, втянул слюну.
Серый ветер, тяжелый бег туч на закат. Никуда не надо ездить. Никуда не надо ходить. У тебя в кармане ключ от твоей старой квартиры. Кто там сейчас живет? Верочка? А где она? Может, уехала куда? Может, новая жизнь у нее? А может, она продала квартиру и деньги пропила? Сестры? Нет, сестры – с мужьями. Мама…
Мама, где ты, мама…Мама, зачем мы живем на земле… Чтобы, каждый в свой час, лечь в деревянную лодку – и поплыть, и поплыть по Реке?..
- Холодная ты, Река, - сказал я Ей. – До чего Ты холодная. Даже взгляд Милой моей, Заступницы моей тебя не растопит. Не согреет. Ты унесешь меня, Река! Я знаю. Да только я сам себе сколочу деревянную лодку! Слышишь! Я – сам! Я – сам рыбак! Я еще тебя переплыву! И так, и сяк, и наперекосяк! Я еще… порыбалю…
- Эй, священник! – крикнул грубый женский голос за спиной. – Хватит стоять-то тут вот так-то! На ветру! Ведь два часа тут торчишь уже! А ветер-то ледяной! Простынешь!
Я медленно обернул голову. Обритая, как после тифа, девчонка, в черной кожаной куртке, с железным, как у коровы или бешеной свиньи, кольцом в носу, со стальной пипкой, продернутой через нижнюю губу, в черных вязаных перчатках с обрезанными пальцами, ноги лосинами туго обтянуты, сигарета – в углу крашенного черной помадой рта, неожиданно низким, как у старой бабы, прокуренным басом еще раз крикнула мне:
- Простынешь, дурак! Жить надоело?!
И захохотала – низко, басовито, грубо, хрипло.
Я приехал в свою старую квартиру.
Ключ, что я хранил в кармане старых брюк, не подошел к замку. Замок сменили.
В моей квартире жили чужие люди.
Я нашел сестер, я пришел домой к Валентине, и Марина приехала тут же, и на грудь кинулась мне; и заревели они обе, и долго ревели, и я их утешал, и ничего не мог понять.
И сестры открыли мне, что мама умерла.
Мама - умерла. Это надо было осознать.
Я перекрестился, а пальцы были негнущиеся, мертвые.
И вера моя тихо лежала во мне, дохлой кошкой в грязном сугробе, и стекленели зеленые, болотные, ледяные глаза ее.
Марина и Валентина, сестры, ревмя ревели, просили у меня прощенья, рассказывали мне все, путано и невнятно, то и дело прикладываясь к стакану, цепляя крючьями изработанных пальцев, вырывая друг у друга из рук бутылку дрянной водки. Они не вызвали меня на похороны. Да и похорон-то не было. Потому что мать умерла плохо и страшно. Она совсем спилась, сидела и просила милостыню уже не около церкви – на Московском вокзале, ее гоняла и шпыняла милиция, город ведь должен быть наскоро очищен от грязных бродяг, от нищих и пьяниц, и мама тоже подлежала чистке, ее надо было убрать, поганый человечий мусор, сжечь, уничтожить; вышло постановление мэра, потом губернатора, - да не успело оно, пьяненькую маму, поздно вечером, сцапал такой же площадной нищий, такой же пьяный и несчастный, как она, изнасиловал за вокзалом, на путях, и тут же убил, и затолкал ее, мертвую, в товарный вагон. Труп нашли уже в другой области, на станции Красный Узел. Дали объявление, напечатали статью в газете, потому что при матери, в ее стареньком, еще военном пиджачке всегда был с собой паспорт, она всегда носила с собой паспорт, по старинке: а вдруг проверка? А вдруг – предъявить где надо?.. имя-отчество-прописка?.. на первый-второй рассчитайсь!.. а паспортенок-то, аусвайс-то мой – вот он, у меня, у сердца…
Рассчиталась…
Сестрам газетную статью соседка принесла. Там и данные маминого паспорта были указаны. И мамина фотография. Товарный вагон, рассыпанный уголь, и мама – навзничь – на крошеве угля. А что реветь-то зря? А уж все случилось. «Ее там и закопали в земельку, на Красном Узле, - хлюпая носом, выла в голос уже в дым пьяная Марина, - закопа-а-а-али… Мамочку нашу-у-у…»
Я глядел на Марину, и она внезапно напомнила мне мою бывшую жену Верочку. Я не пил водку. Я спросил Марину: а Верочка где? Она утерла нос ладонью, пожала плечами и вытащила из-под дивана еще одну бутылку. Я спросил: а квартиру что ж не сохранили? Вы ж там прописаны были! И Валентина оскалилась, как хорек, и прокричала мне прямо в лицо: ты, поп! Придурок вечный! Дурак ты набитый! Жить-то нам на что-то надо было! И сейчас надо! Да мы уж все эти квартирные деньги – сожрали, безмозглый ты попенок!
- Я уже не поп, - сказал я Валентине. – Тише. Не кричи ты так. Я оглохну.
- Оглохнет он! – вопила Валентина. – Оглох бы скорей! Ослеп бы! Милостыньку бы, как мамка, собирал бы! Увечному – лучше б давали! А что ж ты не поп, а в рясе?!
Я сидел перед сестрами в черной своей, васильской рясе. Мял черный штапель пальцами. Я не знал, как им сказать это все. Все, что совершилось.
- У меня просто нет другой одежды, - сказал я, наклонился над непочатой бутылкой «Сормовской» водки и заплакал, как ребенок, так я плакал на руках у матери, очень давно, в иной жизни, только теперь никто не утешал меня, никто не целовал в затылок, никто не шептал надо мною: тише, тише, мальчик мой, все пройдет, все заживет… до свадьбы заживет… до свадьбы…
И я сказал Валентине, слизывая соленый рассол со щек:
- Налей мне.
Она перестала орать и деловито спросила:
- Полный стакан?
Я глядел, как льется ртутная струя в граненый бабушкин стакан. Я следил, как стакан наполняется, как морозно стоит в нем рвотная жидкость людского забвенья, обмана, счастья и горя. Я взял полный стакан в кулак, закинул голову и влил водку в себя, внутрь себя, глубже, еще глубже. Я заливал водкой свою боль. Свою память. Я заливал ею свой огонь. Венчальные свечи, что гореть должны были, сияющие, нежные, на нашей свадьбе земной, - а будут гореть на небесной.
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
- Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает, некнижныя мудрости научи, рыбари богословцы показа… весь собирает собор церковный! Единосущне и сопрестольне Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе!
По всему храму, везде, в банках и бутылках, в вазах и ведрах, стояли срезанные березовые ветки.
Храм зеленел, как лес!
Девочек сегодня много было на клиросе. Я видел здесь и Женю Пестову, и двух маленьких сестер Распоповых, Ирочку и Леночку, а вон золотая головка Дуси Любимовой, а выше всех ростом – с волосами как вороново крыло, черно-сине-изумрудными, гладко причесанными, Полина Никодимова. Я искал глазами Настю. Не было, не было, не было Насти. Все. Не приходила она больше в церковь петь.
- Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть…
Зелень, Троицына зелень кругом! И храм в цветущую землю превратился. Да ведь храм, если вдуматься, и есть – Земля.
Круглая, могучая Земля. И меняются времена года на ней. И круг за кругом идут года; лишь одно Воскресение Господне вырывается из общего круговорота смерти.
Храм – смерть? Да, храм – гроб. Храм – пещера. Входишь внутрь храма, как под землю сходишь. Полумрак. Огни горят. Погребальные? Древние, пещерные огни…
А снаружи к храму подходишь – он как гора. Голову задираешь, чтобы на вершину, на купол посмотреть. И Моисей на горе Синай проповедовал Десять заповедей Божиих. И ковчег пристал к горе Арарату. И Преображенье на горе Фавор совершилось. Да ведь и Распятье – на Голгофе сделалось! И потому храм – гора, холм, курган. Взойди, человек, на колокольню… землю свою в слезах обозри…
- Троицу единосущную песнословим, Отца и Сына, со Святым Духом: тако бо проповедаша вси пророцы, и апостоли с мученики, - пел я, махая кадилом.
Храм, это ведь человек тоже, думал я. Окна его – очи. Купол – глава. Основанье храма – подошва. Да, да, храм это человек, освященный, обоженный уже… такой каменный человече, на века застывший…
- Царю небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша…
А вот купол надо мной. Христос с Апостолами и Матерью и Магдалиной в лодке плывет, рыбу ловит. Купол, ты как Покров… Да, храм – это ведь и Покров, это Плат защищающий, это Крыло, над тобою во тьме миров распростертое… И ты под его защиту бежишь. И ты – в его тени благодатной – замираешь, согреваешься, молитву бормочешь…
А в алтаре – Престол. Царский Престол! Храм – это Царство Твое, Господи, и в нем – Престол Твой, трон Твой! Храм – это Царский, владычный центр, средоточье всего земного… нет, мирового простора. Воссядь на трон Твой, Господи, и осени нас всех рукою Твоею…
- Духа источник пришед на землю, во огненныя реки разделяяся мысленно, апостолы орошаше просвещая: и бысть им облак орошаяй огнь, просвещаяй тех, и одождяяй пламень, имиже мы прияхом благодать, огнем же и водою… Свет прииде Утешителя, и мир просвети!..
И вдруг я будто поднялся над плитами храма и поплыл – поплыл, как лодка, как по Волге корабль, несло меня, держало в воздухе над землею! «Чудо, чудо», - шелестели пересохшие губы. Я плыл как корабль, в желтом и алом мерцанье свечей, и думал: храм, ты тоже Корабль! Ты – Небесный Корабль, а я – кормчий на Корабле! И ветер надувает паруса! И звездный ветер наполняет паруса, и я плыву по небу, и Корабль мой поднимается в воздух, выше, выше, в синее летнее небо, со всеми людьми в нем; и молятся люди о благом путешествии, и Корабль плывет!
И дыханье Духа Святаго несет его…
- О, Рай, - шепчут губы мои, совсем не по чину.
Да, храм мой любимый! Да, ты – Рай! Эдем ты сладкий, душистый, первозданный, желанный, потерянный, вечный! Мы тебя потеряли когда-то – и вот всю жизнь возвращаемся к тебе! Строим тебя, возводим, возделываем, расписываем, молимся в тебе, собираем с деревьев твоих золотые плоды Сада твоего! Райская красота твоя! Запах и Солнце Райского Сада! Се, человек вступает во храм – это он вернулся в Эдем!
И целуем мы, Эдем, землю твою. И вкушаем мы, Эдем, яблоки твои и виноград твой, мандарины твои и инжир твой! Рай, Рай наш, ты только живи, не умирай! Храм, храм мой, как чудесно, что ты, ты один, у людей в их безмерном одиночестве есть на свете… Каждый родится в одиночестве и умрет в одиночестве. Но ты, мой земной Рай, ты – обещанье, что – нет, не один я на свете… Рай мой примет в золотые кущи меня…
Пахло березовыми почками, берестой пахло. Березовым соком.
Девочки пели в Раю.