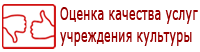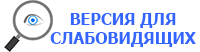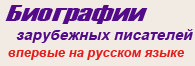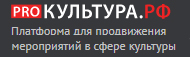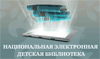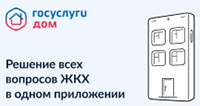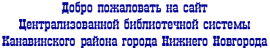
4
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НИЗВЕРЖЕНИЕ ИЕЗАВЕЛЬ
“Благослови, сердце мое, Возлюбленного Господа моего,
что дал мне восчувствовать в жизни моей радость и страдание;
что прошла я стопою нагой по землям иным,
что явилась в град беды своей и Славы Твоей”.
Псалом св. Ксении Юродивой Христа ради на Пасхальной заутрене
(РИСУНОК К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ: ПТИЦА СИРИН – СИМВОЛ ГОСПОДА ИИСУСА)
ИРМОС КСЕНИИ О МЕРТВОЙ ЛУНЕ
Иду. Иду босыми пятками по белой пыли.
Пыль плохая, опасная; пыль – трясина, болото цвета серебристого ковыля. Воздуха нет. Вместо неба – чернота. Глаза выпиты чернотой; они не видят, они карабкаются в пустоте, щупают, хватают, – все зря. Мерный мой ход, плавный. Торжественный, густо течет, как мед на морозе. Острые гвозди звезд распинают. Втыкаются в плечи, в лоб. Кровь не капает: она сворачивается сразу – в черноту, и внутри меня черное небо, и снаружи тоже. Зазубрины камней режут ступни. Я чувствую боль. Я понимаю, что наказана. По левую руку возвышается крепостная стена. Это мертвая гора. Ближе, ближе. Край каменной чаши источен звездами. Он горит терпко и сине. Зыбко в безвоздушье. Ноздри мои склеились. Я бы хотела два крыла за плечами, да видно, лишенке не положено. Отбывай бескрылый свой срок. Налетаешься ужо.
В мареве пыли тускло светятся круглые прозрачные камни. Меня предупредили, что это закаменевшие души. Нельзя наступить. Надавишь – а это чье-то горло, грудь чья-то. Бедные. Надо их охранить. Сколько в мире незримого. Сколько под ногами, в пыли – жизни, любви.
Мне с собой не дали ни есть, ни пить. Ни котомки за плечами, ни ломтя за пазухой. Плоти здесь не потребно ничего из хлебных, мясных людских затирух. Слышно, как шуршат звезды. Они падают, звеня. Шепот звезд. Так бывает на сильном холоду. Я слышу их музыку. Я плачу.
Черный плат небесной сферы – во все двенадцать сторон света от меня. Задираю голову. В выси – надо мной – оранжевое яйцо, две ярко-синих медузы, слепящий бок львиноголового чудовища: звезды. Так вот ты какой, мир! Живой. Хищный. Можешь пожрать. В лапах сцепить можешь. Угрызть. Хватай. Терзай. Для этого тебе и дадена.
Иду. Иду. Ровен ход, неостановим. Останови меня, попробуй. Я этот ход, как ребенка, выносила. Я им болела. Его призывала. И вот я иду. Иду там, где никто из земных не ходил. И я не мертвая. Я живая. Черное небо, раскинься. Раздвинь черные ноги. Вытолкни круглую голову огромной планеты. А я ее назову – своим именем.
Черное небо, люблю тебя! Вот, вот, вижу. Она. Над горизонтом. Синяя. Круглая. Страшная. Вся в белой пене мертвых прожилок. Украсилась черненым серебром. А разве в гробу украшают?!.. Сколько соли и пепла в тебе, Луна. Хруст пыли под моей стопой. Хруст соли на зубах. Вот она восходит надо мной, – а что я знаю о ней?! Что на ней было то, се, что внутри нее лежат те, эти?!.. Они – внутри нее, она – внутри Черноты. Все внутри всего. Игла в яйце, яйцо в утке. Утка...
...я не верила никогда, что тебя подадут к столу, как утку. Что нафаршируют. Яблоками звезд. Сливами чужих лун. И взовьется изогнутый серебряный нож. Таким ножом Авраам должен был заклать сына своего для Божьей радости и довольства. А я... схвачу тот ятаган голой рукой, обрежусь в кровь да и крикну: стойте! Дураки!.. Я вас люблю!.. Вы поубивали себя... пережгли... перегрызли... а как я вам о бешеной любви кричала – не слыхали?!.. Дураки!.. Люблю вас все равно!.. – да, так я и крикну, заплачу, юбки подберу.
Ведь гуляю же в запределье. Гуляю. Значит, и нож тот застольный перехватить смогу.
На мертвой стороне мира, обратной, никто из живых еще не был. Здесь иное царство. Мои тяжелые веки закрыты. Сквозь них просвечивают раскаленные зрачки. Я вижу все. Все восемь чувств обострены. Я вижу, слышу, щупаю, вкушаю, обоняю, люблю, предчувствую, пророчу. Жила женщина однажды – пророчица Анна. У нее на шее висели коричневые сухие складки, как у старой жирафы. Мешки под глазами свисали, как сброшенная змеиная кожа. Она всегда ходила в белоснежном платке – и когда стирать успевала? Каждый день – в белоснежном, крахмальном. Земляная кожа, белый платок. У нее всю жизнь не было детей. Она молилась, молилась и забеременела. "Старуха забеременела!" – кричали на улице злые дети. Она боялась рожать. Она утирала углом белого платка черные слезы. Она пророчила и ясно, как на ладони, видела судьбу своего Внука.
Я занала: она гуляет здесь. За кратером. Ее ноги, как и мои, вязнут в белой пыли.
Я не хочу ее встречать. Белая пыль сушит горло. Как я здесь оказалась? Как пришла, так и уйду. Это обратная сторона медали, и тут выбит профиль Царя. Опускаюсь на колени в пыль близ зубчатой каменной наледи, трогаю слепыми пальцами – на каждом по глазу – каменный нос, рот, надбровье, запавшую щеку. Неужели это ты, великий Царь. Хочу тебя видеть. Обними меня вместо выжженной, высохшей, старой планеты, где передрались и перепились твои слуги. Хочу любить тебя. Я ревную к твоей девочке в хитоне из холстины, к девочке с торчащими грудями, с шеей, как башня Давидова. Я шла к тебе дольше, чем она, – почему ты спишь опять с ней, со сторожихой твоих садов, в морозной белой пыли? Этот снег тяжелый, чугунный. Сбрось его. Скинь одеяло. Хочу видеть тебя нагим. Хочу целовать твои колени и пятки.
Ты здесь. Рядом. Чую тебя. Вижу тебя!
.................я увидела их – вдвоем – за тем камнем, большим валуном в виде головы бегемота. Они лежали нагие. Обнимались. Девушка была похожа на рыбку, тонкую уклейку с раздвоенным хвостом. Она билась в руках рыбака. Всверкивала грудью, животом. Так сверкает улыбка в смехе. На ее запястьях горели два витых браслета – медный и золотой. Круглые камни горели в них пожаром. Горели в свете звезд ее рыжие прекрасные волосы, как я всегда хотела такие волосы, только такие, грешно завидовать невинной красоте. Ярко, бешено горели ее глаза. Она не видела меня, но чуяла, что я рядом. Я была ее соперницей.
.............она не знала, бедняга, что я была ее ладонью, ее волосом, ее потом меж лопаток, ее дыханием, что я была просто – ею; и что меня звали так же, как и ее, и что человек может жить в двух, в трех, в тысяче тел одновременно, и что в разных телах и в разных временах может также жить один и тот же человек; а уж любить-то, любить не воспрепятствовать никогда и никакой из живых душ, – а из мертвых подавно. Мертвые называются мертвыми у живых; у себя, здесь, на обратной стороне зимы, они так не называются. А как-то иначе. Да не все ли равно, как вам все хочется обозвать. Обозначить. Успокойтесь. Все уже произошло. Без вас.
..............и вот они наложились друг на друга лепестками, и укрыл Царь ее копною своих волос, как накидкой. Укрыл от выстрелов, глада, града, снега, огня. Снег свистел со всех строн. Пули звезд летели. Под пулями, под лопатками обозначились суриком и кармином будущие раны. Доносились истошные крики. Похоже, куда-то волокли женщин. На расстрел, в костер? Детский плач был слышен. Рушились и рассыпались в прах белые крыши, и черная земля взлетала высоко, разбрызгиваясь веером. Царь же укрывал свою возлюбленную от разрывов и пуль, ибо знал, что другой такой у него не будет никогда; и знание это отобрало у него страх собственной смерти, потому что, когда любишь истинно, шепчешь: "Пусть умру, а ты, а ты живи". И она жила под ним, под его огромным телом, горячим животом, волосатыми пластинами груди, корявыми сильными икрами, под магнитной мощью полнокровного, тяжкого тела, так сращенного с душой, что и молния небесная не разрежет крепкой сварки; жила, билась, боялась, скрючивалась в комок, часто, как рыба, дышала, молилась, кричала, кусала его и целовала, пела, засыпала, мертвела, видела страшный сон, сон про смерть, – а проснувшись, опять жила. И это я, я жила под широким небом! Под стылым ветром! Под чугунным, любовным снегом хохотала! Это я целовала деревья и тучи! Это я под великим миром жила, умирать не хотела, – а в меня выстрелили, ранили, заглумились надо мной, – добили!
И вот я здесь, с моим Царем. Ведь это он взял мое девство. А я плела ему косы из его длинных, драгоценных волос – там, под выстрелами. Это там, на мосту через сумрачную, нищую реку, среди воплей, звона, костров, лязга, в толпе войны, в тени орудия, из которого люди убивали людей, на камнях, среди белой пыли, лежали мы, прижавшись друг к другу, купали лица друг друга в простых слезах. Вы ели свой хлеб со слезами?! Мы – ели. Наш царский хлеб: среди костров, среди снегов. Белая пыль укрыла нас. Сначала до середины. Потом до шеи. Потом – с головой.
............Суламифь!.. Суламифь!.. – зову я тебя, зову я себя. Но мое имя Ксения, и белая пыль летит мне в рот, забивает глотку. Я живыми стопами, в рубище утлом, исходила обратную сторону Войны. И голой худой рукою я крещу всех, кто был со мной, и ту себя, маленькую, гордую любовницу, – вспомните и вы, как вы свою непорочность теряли, как бились и терзались, – все холодные полы, все горячие печи, струганые голые лавки, высокие травы, ледяные соленые волны близкого моря, – все вспомните, поплачьте, а когда сырую землю будут разрывать, через плечо со ржавых широких лопат бросая, чтоб ваше огрузлое, мешковатое старое тело внутрь земли-матери покласть, то и она, земля, вспомнит в свой черед, как вас звали, как вышептывали ваше любимое имя возлюбленный ваш, ваша возлюбленная. Вспомнит и шепнет вам в уши – всеми корнями, грязью всей, потоками – схлестами дождей, разливов, талого снега; голосами всех ушедших, всех, тихо спящих в ней.
И поднимаю руку в белой пыли, и пророчу: когда начнется Последняя Война, два нагих любовника будут лежать ночью, на сегу, посреди выстрелов и огней. Синие и красные сполохи сойдутся в небе, и грянет Последнее Сражение. И любовью своей два беззащитных тела человечьих, две души – Мужская и Женская – остановят Бой.
........."Ха-ха!.. Ха-ха-ха!.." – смеются выстрелы надо мной. Все гораздо грязнее, мучительнее и проще. И жесточе, конечно. Тех двоих убьют. Убьют в упор, разрывными.
И красные пятна проступят на груди и на спине тех, крепко сплетшихся, любовно спящих под зубчатым кратером, там, в белой пыли, на обратной стороне Любви.
Море глухо бухало в бубен камней. Ледяные брызги взмывали высоко над головой, оседали на красной захолодавшей коже солеными жемчужинами. Волны залетали на длинный, далеко вдающийся в рваное покрывало воды мол, растекались по нему сизой лошадиной гривой. Из быстро мчащихся туч сеялось мелкое серое крошево дождя. Ксения так любила лежать на холодных камнях; она брала с собой из дому рогожку, расстилала ее на мокрых валунах, ложилась, ощущая холод и камень животом, спиной. Ей казалось тогда, что телом своим она ощущает весь холод людской, все страдание людское.
Она согревала людское страдание своим теплом и радовалась. Вот, вот, я же теплая, я горячая. Я согрею. Я животом, спиною, лопатками, ногами все обниму. Всю боль себе возьму. Я жадная.
Море было огромно и одиноко. Оно было ее другом. Оно видело, как взрослеет ее девчоночья спина, как зреет и круглится плоская голодная грудь. Море плевало в нее соленой слюною, смеялось ей в лицо зубами брызг. Она раскидывала руки, подставляла морю шею, подбородок. Не утирайтесь: лейтесь, милые слезы. Брызги сползали по голой шее, текли по груди. Ксения вздрагивала. Эта ласка смущала ее. Она все сильнее, все настойчивее – день ото дня, и в самые сильные холода – хотела ее. Море любило ее. Она расстегивала для брызг пуговицы на кофте. Она не знала, что ей делать.
На задворках, там, где они с матерью ютились в бараке, среди мусора она нашла большой мешок, крепкий, почти целый, если не считать двух прогрызенных мышами дырок; неумело раскроила его и на швейной машинке бывшего Царского кучера сшила себе чудную одежку – рубище, балахон для медитаций, для стояния на молу в морскую бурю. Сшила, надела; кучер воскликнул: "Матушка, Царица морская!.." Исцарапанная амальгама бедняцкого зеркала отразила высокую худую девушку с испуганными круглыми глазами, холодными, цвета ветра и туч.
В самосшитом балахоне она стала приходить к морю. Мальчишки из рыбацких семей свистели ей вслед, кидали гальку и сухие мидии. Крепко сжав зубы и кулаки, стояла она на мощном каменном молу, безотрывно глядя вдаль. Глаза ее белели от воды и ветра. Колени уставали и ныли. И когда она изнемогала, то небо распахивалось, и она видела резкую живую явь, как видят сон.
Горькая свистящая кровь металась вдоль ее жил, ища выхода. Древние люди выборматывали свои многоязыкие речи ее языком. Она облизывала полынные губы. Видела зарева, ярусные города, огонь, много огня. Однажды увидела, как у костра сидит старик, варит в котелке уху. До боли родной ей был этот старик. Кровь вскипела в ней. "Дед, дед!.." – закричала она, выбросила вперед руки, чтобы схватить его изморщенное лицо, смуглые щеки. Котелок опрокинулся в костер, уха с шипением залила огонь. Ксения сунула руки в уголья, обожглась, завопила от боли. Старик, отшатнувшись, молнией глянул во тьму ее лица. Навсегда запомнила она эти глаза. А очнулась – пальцы ее, ладони все в волдырях. Мать, причитая, лила ей на руки прогорклое масло. "Шляешься, шляешься, – с кем ты ведешься, завлекут тебя, засосут, не выберешься!.." Ксения тонко, нежно улыбалась.
Так денно и нощно ходила она на мол. В любую погоду стояла там она. То смеялась. То слезы текли по ее щекам, скулам. А за ее спиной торчали железные трубы, мигали разверстые окна, стучали ставни, лилась и ярилась ругань, гремели бадьи и кузова поломанных повозок, захлебывались толстые злобные собаки, а тощие собаки выли предсмертно, – гудели сирены, сзывая народ на кровавый бой щедрого труда, вдребезги бились стекла, горели ветхие крыши и кошачьи чердаки, таяли снеговики с морковью вместо носа, мальчики раздевали девочек в сараях, где спали ржавые санки да отработавшие газовые плиты, – мир плыл и качался за ее узкой девственной спиной, и там, в облаках, в кромешных тучах, Бог Сияющий уже твердо решал, что ей пора принести положенную жертву.
Край ее балахона вымок от дождей и волн. Она наклонилась, чтобы отжать его. Грязная вода текла ей на щиколотки. Ветер нагло лез в уши, застилая победным пеньем мирской шум, перебрасывал ей волосы со спины на грудь, на лицо. Когда она наклонялась, ветер облеплял мокрую холстину вокруг ее узкого сильного тела, и округлые мышцы зада и икр напрягались, как каменные. Все вокруг было камнем. Камнем и водою. Камнем, водою и ветром.
Как-то услышала она за собой шаги. Хруст мелких камешков под подошвами. Обернулась. Незнакомая тетка. Вся мокрая. Дышит тяжело. "Народ так устал, устал!.. Устал тебя высматривать!.. Чтоб тебя ветер в море не сдул!.. Дубина стоеросовая!.. И что ты тут делаешь, дура!.. И кто тебя просит здесь торчать!.. Вот вызовут санитарную машину, свяжут тебя по рукам и ногам, увезут, куда сама знаешь!.. А знаешь ты, знаешь все про себя!.. Дурочкой-то не прикидывайся!.. Ну, бродяжка, скажи, скажи!.. Кого ждешь!.. Кого ты тут выжидаешь, кляча, козявка Лизаветина!.. Все одно под забором тебя распнут, приблудина собачья, шлюхина дочка!.. Кого!.. Кого!.."
Тряпки на тетке мотались и сверкали, у Ксении рябило в глазах. А тут еще просвет меж туч образовался, и в него хлынуло Солнце, аж до горла душу залило. И среди сверкания и счастья Ксения спокойно сказала, не отворачивая от кричащей мокрого лица:
– Воина своего жду. Воина раскосого, с косичкой. Он уехал на войну давно, давно. Тысячу лет прошло. Его все нет. Но он придет. Он любит меня. Он придет с золотым знаменем, где будет вышито восходящее Солнце. На одной его руке будет сидеть мангуста, на другой – змея. Это будут мне подарки. Мне! А ты уходи, тетка. Иди вари кашу. Ешь ее из миски. Подавись. Я воина своего жду!
Тетка попятилась, быстро замелькали ее руки, ругательства, уши брезентового платка, мокрые блестящие сапоги. Она убегала в вихрях брызг и лучей.
Ксения кричала ей вслед:
– Мой воин меня спас! От смерти спас! Об этом никто не знает!
Тетка, уже близ берега, остановила свой бег, обернула оскаленное лицо к Ксении и надсадно взвопила:
– Больна-а-ая!.. Опа-а-а-а-а-сная!.. За решетку упечем!.. Спря-а-а-ачем!..
Ксения стояла, залитая Солнцем и водой, улыбалась победно. Она поняла, кого она ждала все свое детство, всю нищую юность. Внутри нее разыгралась, пламенем восстала война. И те руки, что выхватили ее из-под танка, те же самые руки расстегивали на ней платье, раздирали надвое завесу мешковинного балахона. "Не надо!.." – желала крикнуть она, а волны пели: "Надо. Надо. Живы. Живы".
Громадная волна встала над ее головой, обрушилась, расыпалась тысячью алых ожоговых искр. Пласты огня сместились. Падая, смываемая волной, она ухватилась холодными пальцами за скользкий каменный край мола, пыталась уцепиться ногтями, прижаться грудью, но соленое красное пламя властно поглотило ее.
СТИХИРА КСЕНИИ О ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ И ПЕРВОЙ ЛЮБВИ ЕЯ
Люди не бежали, а валились из темного рога. Из тумана выхватывались призрачным светом то рука, то нога, то искаженное ужасом лицо. Стреляли густо. Пули свистели противно. Ксения никогда не думала, что у них может быть столь мерзкий звук, когда они летят. Она впервые слышала свист пуль. Она втыкала в уши деревянные пальцы, но свист не убирался. Он холодил глубоко, под ребрами.
Люди сумашествовали. Летел по ветру и гноился кучными залежами в подворотнях сухой, бесслезный людской клубок. Колючее перекати-поле с вытаращенными глазами. Снег с визгом срывался с серо-черного мертвого неба и метил высохшую траву. Ксения не знала, что сейчас – осень, зима; снег падал на траву, и она встала на колени на грязном газоне, окунула горячее лицо в белое, сладкое. Сладок снег на родине. Куда ее гонят плетью пуль?!
Люди-коршуны подхватили ее под мышки, подняли с газона, и она полетела вместе со всеми. Стреляли им в спины. Вокруг Ксении с непонятными криками падали люди и умирали. Ксения не могла остановить их смерть, ибо ее было слишком много. Она чувствовала, как сердце ее наполняется кровью и бьется. Так бьется плохая кровь в больном пальце. И его хочется отрезать, чтобы враз боль отпустила.
Свист раздался над ухом, и бежавшие сзади Ксении с воплями повалились на нее. Это было как в игре в кости: подбили битой бабки, и зрители заулюлюкали, захлопали, заругались пьяно. Тело Ксении оказалось под тяжелой жирной тушей волосатого мужика. От него пахло супом и котлетами, он, должно быть, повар был. Ксения засмеялась от вкусных запахов и забрыкала руками и ногами, желая освободиться. Смешно быть в Войну не застреленной, но раздавленной. Выпроставшись из-под визжащего человека, она перебежками запрыгала дальше, от дома к дому, от фонаря к фонарю. В бегущую толпу врезались солдаты в шлемах, на мотоциклах. Девочку, что бежала рядом с Ксенией, держа крепко клетку с попугаем в руках, прижимая ее к животу, задавило. Клетка откатилась далеко, дверца ее распахнулась, и ярко-синий попугай, сказав печальное на своем языке, выбрался наружу. Заскакал к неподвижной хозяйке. Ксения видела еще немного, как он скакал по тельцу девочки, впиваясь в нее лапками, и кричал о смерти.
Люди полыми черными бочками выкатились на сухо и блестко сверкающую жестким снегом площадь. Она была полна диких огней. Костры горели везде – по ободу площади, на склонах мусорных холмов, близ домов с пустыми глазницами. Ближе к центру костры горели кучнее, гуще. Люди грели у костров руки, путая чужих со своими. Ни у своих, ни у чужих не было нигде ни нашито, ни приклеено опознавательных знаков. Толпа, вихрясь и клокоча, обтекала танки. Обступала их. Когда пушка гусиной шеей нацеливалась на толпу, люди бросались животами на снег, в грязь, влипали головами в землю. Люди понимали – лишь сейчас, лишь теперь, – что из земли они вышли и в землю уйдут, что лишь земля – дом и прибежище, что она спасет, она и похоронит, и косточки белые глубоко в ней бессмертными пребудут.
А пули свистели, гудели повозки, поворачивали шеи танки, стреляли в кромешную ночь костры тысячами алых и желтых искр, золотыми зернами, и Ксения летела искрой вместе с другими, поджигала собой смерть. Она знала, что смерть – это один из знаков, одно из заклятий земли. А если понять, что ты уже при жизни живешь на небе, то ты перестанешь верить в смерть. Ты просто полюбишь ее, как любят мужчину. Так говорил тот человек из нищенской Шамбалы, где жила она семь долгих лет. Только она не знала тогда мужчину. И Юхана еще не знала. Она крала для нищих хлеб в харчевнях, прямо со столов, недоеденный. Тот человек из Шамбалы был длинный, худой, на одной руке у него было пять пальцев, на другой – шесть, и они были черные от грязи и любви.
И Ксения полюбила смерть, как жизнь, хотя ее еще матушка Елизавета учила этому, и благодаря этой любви все в ней пело и играло, и многие – а она сама этого не знала – удивлялись ее красоте, завидовали ее бродячей зимней наготе. На лицо она была девочка, хоть давно забыла, сколько ей лет. Она жила сразу в нескольких своих телах и в нескольких временах, и каждое время она любила нежно и напоследок, а это, где стреляли и убивали, – больше всех.
На площади, среди костров, в развороченном взрывом газоне стоял тощий лысый человечек, изжелта-смуглый, с вязкой гранатовых бус на жилистой жалкой шее; в костлявых руках он быстро перебирал мелкие ягодные четки; голова его была выбрита долыса, синя, череп бугрился шишками и наростами. Он бормотал безостановочно: "Харе, Рама, харе, Рама, Рама, Рама, харе, харе". Снег белой кошкой царапал его голые щиколотки. Ксения издали увидела его. Люди слепо метались среди огней, теряя равновесие, падали в костры, на них возгоралось платье, затлевали шубы, ветхие тряпки. Ксения, пробравшись сквозь людское варево, встала рядом с кришнаитом. Дрожь улыбки прошла по смуглому лицу лысого человечка. "Все это будет семь дней и семь ночей, – сказал он Ксении хрустальным голосом и передвинул бусинку на четках. – А может, семижды семьдесят семь лет. Когда сразятся они, станут сражаться их бедные дети. Блаженны нищие, ибо их есть Царствие небесное. Харе! Харе! Аллилуйя!" Ксения засмеялась под пулями и обняла лысенького, крепко обняла за дрожащие под холстиной сутулые плечи. "Давай вместе", – просто сказала. Они вздохнули вместе и заорали: "Аллилуйя! Аллилуйя!"
У ближнего костра грел руки молодой лейтенант. Оружие, зацепленное за косую перевязь, болталось у него на животе. Исподлобья наблюдал он за лысым мальчиком и золотоволосой девочкой, обнявшимися в зимнем газоне, нагло и весело орущими. Девочка ему понравилась. "Интересно... своя или чужая?.." – подумал он тоскливо. Она похожа была на голодную зверушку, на соболенка: ей бы хлебец в зубы да снова на волю.
Он не успел додумать. "Танки!" – истошно закричал бабий голос в толпе. Люди черными букашками забегали меж костров, ища укрытия, пытаясь спастись. Господи, как же все они боятся смерти. Как хотят жить – на лютом морозе, в голоде, в нищите, нагими, голыми, босыми, израненными, искровяненными, – сиротами, – калеками! – только – жить, всегда – жить, до могилы – только жить. Господи, разве они не знают, что обнять смерть – все равно, что наступить ногою в небо?!
Танки появились неожиданно. Сначала возник тяжелый, непереносимый ушами гул. Казалось, раскалывается твердь. Гул вязнул в зубах, оседал на языке, молотом колотил в затылок. Спастись от гула было нельзя. Затем из тьмы чудовищными китами выплыли ОНИ. Горячий воздух сотрясался вокруг них, они пахли машинным маслом и смертью. Они шли неумолимо, и важно было – не пустить их дальше. Остановить их. Ведь любить можно только смерть, приходящую сама по себе. Если нам ее дарят, навязывают насильно, – трудно познать и нацепить ее старые рыжие крылья. Тут трудно улететь. Тут бывает так: тьма – крик – пустота. Ксения часто видела эту пустоту руками, когда прикладывала руки к убитым, пытаясь оживить их. Потом, пробегая искалеченною землей вместе с умалишенными людьми, она рассталась с мыслью о воскрешении. Скорей, скорей. Пуля вопьется в нее. В ее кожу и кровь. В шею – туда, где жила жизни. И это очень больно, страшно. И она боится этого. Ты, старый дурак из нищей Шамбалы! Ты все учил неверно. Смерть – это больно и страшно, и это навсегда.
Танки гудели, шли стеной. Наплывали. Подминали под себя белый зимний мир. Давили в кровь живые тела, и красное являлось на белом, а чьи-то зубы во тьме танков смеялись. Ксения громко крикнула одному из танков: "Стой!" – пушка только выше поднялась, и черная дыра стала искать того, кто кричал, наставляться на нее, Ксению. Она ринулась вперед, вымахнула руки вверх, к небу. Худая тростинка в заляпанном грязью и кровью рубище. Живая. И жизнь ее толкнула еще вперед, еще ближе, к шевелящимся и ерзающим железным гусеницам, мнущим и жрущим, и жизнь подожгла ее волей: "Вперед! Отомсти ему! Перейди ему дорогу! Убей его: собой!"
Ксения захотела не дать им пройти. Ни одному.
Она вытянула руки к небу еще сильнее, еще мучительнее. И, неистово закричав, она бросилась под танк.
Красный и оранжевый снег закрутился у нее перед глазами. Лейтенант, гревший руки у костра и уже успевший всунуть их в шерстяные перчатки, прыгнул быстрее хищной кошки. Девочка, что так понравилась ему, уже лежала перед танком, под самыми гусеницами. Гул прожигал насквозь масленый, насыщенный криками черный воздух. Сажа, пепел, голодный дым костров. Тело девочки под грудой металла. Сейчас раздавят и эту жизнь. Ну уж нет! Он рвал ее из-под гусениц танка, отдирал с кровью, отлеплял от смерти. Он матерился и плевался, он вцепился ей в ребра, в плечи, тащил ее, как рыбаки тащят тяжелый от рыбы невод. Он отрезал ее – живым куском – от горелого смертного хлеба. Пусть будет она пищей живым. Пусть послужит. Ломайте по крохе. Кусайте. Вгрызайтесь. Любите. Эта жизнь – ваша. Я дарю ее – вам.
Оттащив ее от ревущего танка и бросив в снег, около костра, – так близко к огню, что волосы и брови ее опалились и затлели, – лейтенант отцепил с пояса связку гранат, сильно размахнулся и кинул их в гудящее железо. Вот тебе, Левиафан. Вот тебе. Умри, Левиафан, порождение ехиднино. А она пусть живет.
Связка взорвалась, махина обкрутилась бешеным пламенем. Танк беззвучно кричал. Там горела живая душа – живая улитка в железной ракушке. Ксения лежала на снегу неподвижно. Лейтенант, чтоб спастись от огня и взрывной волны, лег животом на снег, уткнулся лицом в Ксеньину ногу. И, пока горел огромный танк, он ощущал щекой, углом рта, как ходит теплая и любовная кровь в тонкой Ксеньиной ноге, как колются – едва, чуть слышно – волосики повыше ее щиколотки, бодают небритую лейтенантову шеку, веселятся, радуются, что живы они.
Он подполз к девочке поближе, осторожно взял ее за вылезшие из холстины плечи, перекатил, как березовое полешко, от мятущегося костра в белую тьму, чтоб их никто не видел.
"Тебя как зовут?.."
"Ксения. А тебя?.."
"Да так. Неважно, как. Просто – человек."
Она дышала тяжело и часто, молчала долго. Он молчал тоже. На их распростертые бледные тела медленно, крутясь по ветру, оседала сажа, опадал мертвыми лепестками полночный снег. Гул удалялся. Танки уходили? Разве может уйти возмездие? Разве может уйти обида? Ксения знала: они придут опять. И она опять закричит страшно и ляжет под танк. Она их ненавидит. Это она поняла. И улыбнулась веселой злости своей.
А этот мальчик, что он тут делает?.. Надо вспомнить. Да, он ее от смерти спас. От смерти спас. А зачем?.. Затем, что не отслужен еще срок службы. Он так больно вцепился в нее. У нее ребра болят. Вот грубиян. Медведь! Мог бы и поосторожнее.
И Ксения, лежа на грязном и красном снегу, ласково улыбнулась ему, не зная, что он уже поднял лицо свое от снега, от земли с застылой комковатой грязью, и вздрогнул от созерцания ее дрожащего нищего рта, и задрожал, потому что захотел, до ломоты в неуклюжих пальцах, раскутать с нее хилые серые тряпки и поцеловать вспухшими, разбухшими губами ее ребра и живот.
"Я сумашедший, я сумашедший", – зашептал он, жарко дыша Ксении в рот, приблизившись к ней поелику возможно.
"Ты так хочешь меня?.. Здесь, сейчас?.."
Она чуяла свое тело легким, невесомым. Спина мерзла, прикасаясь через ткань к снегу.
"Да. Я так хочу тебя. Здесь и сейчас."
"Но... видишь, – идет война. Стреляют. Жгут костры. Здесь много снега и огня. Я хочу быть голой перед тобой, но как же мы разденемся на снегу?"
"Мы разденемся на снегу, и я буду трогать твою грудь и целовать твои сосцы. Ты не умрешь".
"Мы лежим во тьме. Костер поодаль. Не бойся ничего. Раздень меня".
"Это ты не бойся. Я-то не боюсь".
Он боялся больше нее. Он боялся за нее.
Он сорвал с нее всякие разные тряпки, добрался до теплоты спасенного им тела, стал щупать и мять, достиг до всех впадин, косточек и вмятин, гладил и нервно осязал восставшие дыбом лимонные соски; вот и ребро, вот другое, – он пересчитывал их все, золотые ребрышки, до единого, словно он играл на дудочке, словно гладил киску; а это, это горячее, мокрое, две звезды в раковине или одна, он сослепу не различает, его пальцы перестали видеть, они только горят, ну, глубже, еще глубже, еще, там будет сияние, вот уже поднимается свет, еще сильнее, пронзительнее, – вот она, чистая перловица, тайна Рая, разве возможно это убить, и неужели отсюда является в мир человек, – как прозрачно и темно, как горячо, почему он весь трясется, ведь он же ей ничего такого на сделал, его всего колотит, еще глубже, еще больнее, как лихорадка, а свет-то откуда, когда такая тьма охватывает тугим и сладким кольцом его руку, – прозрачная пелена, пленка, вот она, ей больно, что это, она кричит, она охватывает его руку горячими ногами, завеса в храме разодралась надвое, и свет розовый, золотой и синий хлынул из скиний небесных, но кровь, где кровь, где кровь и война, где кровь и смерть, – ты видишь, она хочет сиянья, так добывай же его, так расти же его в ней, глубоко внутри нее, но твоя рука уже обожжена, она не может идти вглубь, она выпита, из нее взяты силы, так помолись, помолись, парень, дурак, чтоб Бог тебе еще одну, последнюю силу послал, ведь ты уже с ней в подлунном огненном мире не будешь никогда, никогда. "Еще!... Сильней!..." – шепчет она, умирая, ее голова закинута, зубы блестят снегово, он приближает лицо к ее ждущему рту, не отнимая руки от нее, и она кусает его за губу, пытается проглотить, как рыбу, его язык. Он будет так в ней вечно, глубоко в ней, и его рука прорастет сквозь нее, вырастет черным, печальным древом, и на древе том будут качаться снеговые плоды. Как прекрасны ее зубы, они светлей искр костра площадного! Как блестит на голой груди крест нательный! Он обещал целовать ей живот, ребра; он будет делать это. Он уже делает это, и рот его ищет нежную кожу, ее пупок, пересчитывает ее ребра, как давеча делали это пылающие пальцы, он втягивает, вбирает, всасывает в себя весь ее страх и вдувает в нее, вбрызгивает всю нежность, всю сладкую боль, всю небесную чистоту, что – вверху, там, за смрадом. Он целует все – и волосы у нее за ушами, и зверьи ушки, и грязную шею, и высохшие ветки голодных ключиц, вот она лежит голая на снегу, и он целует всю ее – бедную, нищенку, оборванку, спасающуюся им – от смерти! Тело ее горит на снегу подбитым опалом, осколком старого зеркала с проржавевшей, потертой амалигамой. Тело ее во тьме сверкает зеленее молнии, розовее неспелой вишни. Пули свистят, костры гудят, пора уходить с нагой площади, где все на виду, сейчас танки развернутся и будут расстреливать нас в упор, но тело возлюбленной горит всегда на снегу, распятое лишь мною, мужчиной, и если нас убьют, – нас убьют вместе, вместе мы уйдем, а это значит, никто больше в целом мире не будет видеть и осязать это нагое, это мое навсегда тело, целовать соски и живот, целовать, вдыхать, мять и подминать, вознося высоко, выше куполов и звезд, эту разъятую, распятую, разверстую, всю нагую душу, ибо она моя и только моя, и ничья больше, и, прошу вас, танки, стреляйте скорее, потому что я уже ложусь на нее, потому что она уже подо мной, надо мной, потому что она уже кричит и содрогается, а я еще нет, и пусть, и хорошо, я так хотел, так и только так, и больше никогда – так, так, как теперь, так, как ни у кого, моя рука в крови, пальцы в крови мои, я жесток, я счастлив, я мужчина, а возлюбленная моя – женщина, – так почему же вы не стреляете, сволочи?!
Ксения содрогалась. Она содрогалась волнами. Огромная, сильная волна. Одна. Другая. Третья. Она не считала их. Они шли и шли. Они поднимались, рушились стеной. Они были серые и прозрачные, чистые и грязные; они были холодные, ледяные, они обдавали ее тысячью ледяных брызг, и брызги обжигали ей голое тело.
Снег летел на них, голых. Он белым лучом ударял в горячую тьму. На снег капала кровь. Ты убил меня любовью. Ты воскресил меня. Я никогда не отпущу тебя. Будь всегда во мне. Пусть нас убьют так. Вот так. Я не хочу иначе.
Последняя волна, самая сильная, неизбывная, прошла по ней, вдоль всех впадин и хребтов, по всхолмиям и излукам, и погасла во свете тьмы.
Море заливало соленой радостью мол. На скользких, увитых водорослью камнях раскинулись руки, ноги. Солнце, мигая из-за холодных туч, внимательно глядело на два нагих тела. Ксеньин балахон, сброшенный, лежал рядом с ней. Она нашарила его слепой рукой, улыбнулась: здесь. Справа. Слева горело чье-то чужое: иная плоть. Дух ли, живого ли целовала она? Медленно повернула Ксения тяжелую голову, медленными глазами обшарила чужака. Худой. Некрасивый. Деревяшками выпирают скулы. Глаза закрыты. Он спит. Под хмурым небом, голый, на морском ветру, весь в брызгах соли – спит? Притворяется?.. Ксения зрачками прочитала на скинутой шкуре его одежд: погоны, зелень защитной ткани, форменные со звездами пуговицы, поддельно-золотая бляха на ремне, – она не умела определять по погонам военный чин, но поняла, что – воин, и обрадовалась. Значит, вещие сны сбылись. Серебряную селедку разрезал надвое меченый нож.
Мужичонка разлепил глаза. Мертвая рыба его руки ожила, локоть больно ткнулся Ксении в бок.
– Эй, – тихо крикнул он. – Эй, где это мы?..
– На молу, – отвечала Ксения, вытягиваясь сладко. Кожа ее вся покрылась гусиными, морозными бугорками. Зубы начали выбивать ритм танца. Она цапнула заледеневшими руками свой мешок и пыталась одеться: совала в мешковину голову и не находила раструб дырки, вздевала руки в шершавые складки, – напрасно. Она запуталась в мешке и засмеялась.
– Эй, что смеешься?.. – Голос мужичка был обиженный. Он тоже захотел прикрыться своими военными тряпками, набросил их на худую мосластую плоть. – Я тебя знаю?.. Нет?..
– Знаешь, конечно, – усмехнулась Ксения. – Меня весь поселок знает. Я дурочка. Мать со мной замучилась. Я везде хожу, побираюсь. Нам бывает нечего есть. Я мечтаю. Я вижу многое и знаю тоже.
– И... меня знаешь?!..
– И тебя. Еще бы тебя мне не знать. Я тебя ждала.
Мужик расширил глаза. Схватил штаны, стал судорожно пялить. Он хотел убежать с мола, отсюда, от сумасшедшей, скорее.
– Ты воин, – сказала Ксения убежденно. – Помоги же мне надеть мое платье. А косичка у тебя – есть?
Она бесцеремонно закинула руку ему за шею, стала царапать и щупать затылок. Стриженый! Голый! Холодный затылок, – косички нет, но ведь была когда-то! Тысячу лет назад!
– Откуда... знаешь?.. – мрачно буркнул он, смущенно. – Была... косичка. До армии. Косичкой гордился. Потом призвали. Голого меня в больнице щупали. Стыдно было. Смеялись. Косичку велели остричь. Парикмахер машинкой по голове водил. Она жужжала, как танк. Откуда ты знаешь?..
Они неуклюже, потупясь, помогали друг другу одеться. Стояли на молу друг против друга, девочка в мокром мешке и мужичок с квадратными скулами, в погонах лейтенанта. Ксения положила руку ему на грудь. Под ее ладонью толкалось и лепетало чужое сердце.
– Мы тут с тобой были... вместе?.. – Голос лейтенантика срывался, он не мог говорить.
Глаза их скрестились, косо дернулись вниз. Голыми ступнями они стояли в крови, уже наполовину смытой морской водой, уже смешавшейся с морем, его смехом и холодом.
Лейтенант задрожал. Он все понял. Ему захотелось удрать как можно быстрей. А еще больше – захотелось снова обнять ее, поселковую дурочку с мола, потому что его губы и живот вспомнили ее и захотели окунуться в нее опять, как в море. Зачем он забрел сюда! Лучше бы пять суток гауптвахты! Это жесточе боя. Если узнают в поселке – ему тюрьма. Она беззащитна и, может, сильно больна.
Он протянул руки и коснулся ее дрожащих под холстиной плеч.
– Эй, как зовут тебя, не знаю, только не уходи! – вытолкнул из себя с натугой.
Ветер трепал их наряды – холщовый и хлопчатый. Они не двигались. Под ее ладонью билось живое сердце. Под его руками сводило холодом женские плечи. Он сделал дурочку женщиной, и сладкая гордость распирала его. Ему казалось – крылья за его спиной, за ее лопатками. Он снова хотел ощутить свою острую тоску внутри ее радости, непомерной и горячей. Он не хотел, чтобы она уходила. Пусть тюрьма и трибунал; пусть громкий смех из многих глоток и расстрел. Может, он заразился и стал дураком. Но если она уйдет – все пропало.
Он сильнее сжал ее плечи. Придвинул мокрое лицо к ее лицу.
– Слышь, – зашептал он. – У меня есть знакомый шофер. Отличный парень. Язык за зубами. Увезет нас. Я из казармы удеру. Плевать на все. Я мужик смелый. Ты не бойся. Я хочу с тобой жить. Косарь увезет нас далеко. Он нас не выдаст. Ни в жизнь, Косарь не такой подонок. У него машина казенная, грузовик, но наплевать. Он все равно обратно пригонит. Слышь, дура! – Он перевел дух. – Сказала бы, как зовут тебя! Я тебя не оставлю! Я не отпущу тебя. Хоть режь меня. Я тебя... вылечу. Ты будешь хорошая баба... нормальная. И мы с тобой заживем. Как люди. Денег у меня немного есть, там к матери моей проберемся... а?.. Да слышишь ли ты?!.. Или глухая?!
Ксения печально поглядела на него, запоминая навек. Рванулась к нему, прижалась вся, по-девчоночьи, по-детски. Так крепко обнимались они, что кости чуть не хрустнули. Потом она отпрянула и резко, грубо стряхнула его руки с плеч своих.
Помолчали немного. Лейтенант ждал ее ответа. Море глухо бухало в серый бубен вокруг них.
– Не ходи за мной, – просто сказала Ксения. – Все, что было с нами, уже было когда-то, давно. И еще будет много раз. И у тебя, и у меня. Я сама не хочу уходить, но кто-то сильный тащит меня. Не догоняй! Меня Ксенией зовут. Ты запомнишь меня?..
Огромные слезы текли по ее щекам, скулам, носу, подбородку, шее, она утирала их руками, кулаками, шмыгала в сгиб локтя, окунала в пригоршню колышащееся лицо, утишая горе, убивая силой разлуку, и уже повернулась спиной, и уже шла, прочь шла по длинному бесконечному каменному молу, заросшему водорослями, как старик – бородой, и видел лейтенант качающуюся от рыданий, в свете морских брызг, узкую спину, видел мелькающие под рогожей щиколотки и пятки, следил – через набухшие линзы проклятых мужицких слез – как шла от него прочь по молу девочка, обесчещенная им, девочка в сером мешке, смешная, желанная, – и он вспомнил, что спас ее в неведомую войну из-под танка, вытащил, ругаясь матерно, из-под смерти это любимое нежное тельце, – а она уходила опять, и он скрипел зубами, и оторвал медную пуговицу на гимнастерке, пытаясь распахнуть ворот, ибо задыхался от горя, – а она уже шла по берегу, по наледи, по засыпанным снегом голым камням, все дальше, по снегу, босая, в виду приземистых мрачных домов поселка, и уже мальчишки бежали вслед за ней и бросали в нее маленькими камнями и острыми ракушками, и он увидел, как от ее рогожки и от ее затылка исходит свет и лучи рвутся в сторону моря; и закинул он руку себе за голову, и пощупал лысый затылок, и засмеялся больно, морщась:
– Косичка!...
А ветер толкал его в сутулую тощую спину: уходи, уходи-ка ты, парень, навсегда отсюда.
ТРОПАРЬ КСЕНИИ О ПРИХОДЕ ЕЯ В ГРАД АРМАГЕДДОН
Таким образом я потеряла девственность, и теперь мне было ничто не страшно. С Востока, от холодного моря, я тогда снова пошла на заход Солнца, в смертельные для взгляда человека западные города. Я ночевала где придется, а то и не ночевала совсем – бессонно шла по дорогам, вглядываясь вдаль, во тьму. Боялась ли я чего, кого? Ясно, боялась. Когда страх хватал особенно сильно, я лезла за пазуху – у меня там всегда был хлеб от добрых людей, собачке, мне, брошенный – и грызла, всасывая внутрь хлебный сок. Хлеб давал мне силу. Он смывал накипь страха. Так, молясь и замерзая в ночах, добрела я до большого города, созданного из кишения дырчатого камня, глупых скал и стен отвес, до небес, из сот и склепов – вырывались из дыр огни, и имя ему было то ль Бабье Лоно, то ль Волчье Логово, то ль Умри-Герой, а то ли как еще, разве хороша память у меня. Тысячи дорог я мерила хлипким телом, маятником Простора, и возжелала отдохнуть. А город тот, сумасшедшенький, кипел и блистал весь проклятыми, богатыми харчевнями – пруд их было пруди! На всяком углу – искры рассыпали! Зазывали! А я, Ксенья, беднячка. Босячка. В мешке через всю землю прусь. Ноги в крови, в цыпках. Мыслю так: меня туда, в Царскую едальню, нипочем не пустят.
Подхожу к чугунной двери, стучу в застекленье, жду – удара, крика, ругани, толканья взашей. Приготовилась. Вечер, полыхают и шевелятся по всей безвидной тьме огни, легион огней – жгут спину, там, где у ангелов крылья бывают. Может, это ноябрь. Мне холодно. Мне робко. Мне бы поесть и согреться. Там цветные стекла бесятся, дамы в боа скрючились над печеным и жареным мясом. А я тут шавка. Шыр, шыр – шаги к вратам. Роскошный скрип. Отворенье – настежь.
– А, это вы!.. Пжалста, мы давненько вас поджидаем. Быстрей, быстрей!.. С вашим гримом... Знаем, знаем, как вы долгонько переоблачаетесь, видали...
Пустили! Приняли за кого-то, ну и ладно. Я втерлась в залу сквозь блесткую жучиную толпу. Все благоухало. В нищей Шамбале знали цену ароматам, по косточкам ведали их смысл. Запахи шли слоями, густились, тупели. Разве можно испечь из запахов многослойный пирог? Я села за пустой стол, укрытый камчатной скатертью, и крикнула: "Принесите мне хлеба!" Все головы обернулись, и все глаза уставились на меня. Человек в черной коже, кисло скукожив рот, чтоб не смеяться, притащил мне на серебряной дощечке немного кусков хлеба, графин с чем-то кровавым и тягучим и солонку с серой, расколотыми друзами, солью – на, подавись. Я стала чинно есть под тихий говор и пересверкиванье глаз. Я была голодная и замерзшая, и спасибо тому кислоротому, что меня накормил. Только я успела поднести неведомый кусок ко рту, как загрохотали бубны варьете, и мохнатые девки с голыми, как лилии, ногами полезли на возвышение, скалясь и топоча, и вперед, из всех, вырвалась коричневая, пахучая, маслено-потная девчонка, глаза – по плошке, светятся, как у кошки, шея торчит башней из кучи кружев, колени вздергиваются до подбородка: бесовка! Так заплясала, что я ей закричала:
– Поддай, поддай! Еще, еще!
И я захлопала что было сил в ладоши, вскочила и засвистела – свистеть меня научили приморские мальчишки в поселке, я и залилась соловьем. Вся ресторация с куриных насиженных мест повскакала. Бабы, что поближе ко мне, краской до ушей залились. Гогот! Гвалт! Эти, жуки в черном, меня уже под локти берут. Разобрались, видно, в чем дело. Что не та я, кого ждали. Не клоунша, а настоящая. А настоящего им не надо. Крема не было внутри меня: одни отруби крепкие.
Вот уже волокут, тащат, усовещивают, – а эта коричневая тетка как рванется ко мне с деревянного постамента, вцепилась мертво: "Дайте мне ее, дайте!" Выговаривает странно. Наша речь – и не наша тоже. "Уйди, Испанка, – жуки ей вопят. – Это совсем не госпожа Скоробогатова. Это, видно, побирушка из подземного перехода, шваль. Погреться ей захотелось! А потом в притон пойдет, на малину. Не мешай – выгоним!" Смуглянка меня за плечо схватила и к себе тянет. "Нет! – визжит. – Не отдам! Мне ее пластика нужен, пластика! Понимай! Дурак, официант! Ты не думай, Петька, это быть лицо ресторана!"
Так тащили меня в разные стороны, и была я вмешана в дикое тесто толпы, и давила и мяла меня людская свара, и видела я у людей песьи головы вместо живых лиц, но Испанка поднатужилась, сильней оборотней оказалась, вырвала меня из черного душного месива, вытянула. В борьбе мне вывихнули кисть, Испанка потянула и вправила, я заорала от боли.
– Кричать? – улыбнулась Испанка, коснулась пальцем моего подбородка. – Голос быть замечательная! То, что надо! Мешок – снимать?..
Я так и не сняла свою одежду. Мы поладили с Испанкой. Она учила меня танцевать. Место, где все толкались и пили, сзади большого ресторанного зала, называлось – ночной бар. Я знала, для чего я ночью не сплю. Но эти, зачем у них отнят был сон? Затем ли, чтобы ужасом сласти и желания наполнять, насыщать под завязку живые мешки угрюмых тел своих? Я не осуждала их. Я видела – Волчье Логово живет по своим законам, которые мне не нужно было постигать – я видела их, как мертвую птицу через стекло, – мне надо было смиряться с ними, носить их на плечах, совать их в карман. И знала я, что не смогу; и печаль сжимала птичье сердце мое.
"Нога – здесь!.. Нога – вверх!.." – повелительно кричала Испанка, заставляя меня делать вместе с нею танец. Я вздергивала ногами. Мешок болтался, голизна моя была вся на виду. Не собиралась я становиться танцовщицей. Зачем я шла на поводу у Испанки? Оттого, что она меня спасла? Она наряжала меня. Баловала. Не доедят богачки – она после грохота варьете быстро оббежит залу, соберет прямо в подол все вкусненькое, всех звезд-морских-лимонов, все орешки-в-мережку, – и бежит ко мне, несется, припрыгивает, танцует: "Вот, ешь, Ксения, ма корасон! Ма маха! Мы много сил надо, чтобы – жить!.." Она не знала, как проклинала я жратву, еду – благословляла. Но ела покорно эти барские фитюльки, чтобы доказать ей, дивной, коричневой, свою любовь.
Да и она любила меня. Часто – сидим после танцев, отдыхаем – мне руку на ногу клала. Искала глазами глаза. Нежно по шее, вдоль сонной жилы, гладила. Но разве в телесах ласкаемых все дело любви? Выражаем ее коряво, плотью. А она высоко, над нами. И не поймать нам ее руки и ноги в танце, ее летящую спину, бьющиеся бедра. Однажды Испанка наклонилась и поцеловала мне ладонь. "За что?" – спросила я, смеясь. "За радость, ма корасон", – был ответ. И я бросилась ей на шею, и пылко обняла ее. А все актерки варьете заржали, как лошади, ибо вся любовь наша нищая, светлая, проходила у них на глазах.
– Гляньте, кошки!.. Гляньте, кошки!.. – взвизгнули девицы, поджимая животы, тиская и тряся в ладонях свои груди. – Гляньте, соком истекают!.. Уж ничего не скроют, нахалюги!.. Ну ты, Испанка, не тушуйся, ее нашенскому ремеслу натаскай, обучи...
Шла ли речь о ремесле любви? То, что было со мной на холодном сыром молу, застлалось ветрами, солью, земною пургой. Я не запомнила ничего, кроме боли и радости. Но и этого было довольно; но и это было наградой – мне, малой, не отработавшей работы Богу за то, что живу. Я не боялась Испанки. Я любила ее. А она, когда нарядит меня в море обносочных кружев, в круговерть запятнанного закулисного атласа то цвета яблок, то цвета крови, – кричит дурашливо и зазывно: "Ох, Ксенья, я боюсь тебья!.. Я боюсь тебья!.." Я мрачно скину наряды, под ними – родной мешок. И уйду в ночь – одна.
Как ни просила меня Испанка, бедная, как ни умоляла, – я упрямо уходила одна, ибо ночевала я одна в одной комнате, одной из многих пустых и озверелых комнат, в большом и благородном старом доме на слом, в пустом, где выли одни вьюги, огневом переулке, называемом в народе "Цирком". Меня предупреждали, делали страшные глаза, но я увидела лицо хорошего дома и погладила его по лицу, и нагло вперлась туда, поселилась – мне запоры были нипочем, пожарные запреты и ночные облавы: я залезала наверх по скелетной железной лестнице, по которой спасают из огня детей, вваливалась в разбитое окно, ложилась на безногий диван – из него по ночам выползали древесные жучки – и беззаботно засыпала, благословляя мир, благословляя тепло, ложе, ночлег, сон. Во сне ко мне приходили: мать, Царица, жена Царя, и Испанка. Они меня ласкали, водили руками по моим щекам и животу, ругали меня, плакали надо мной. Я пьяным от сна языком утешала их, чтобы не скорбели обо мне, ибо путь еще дальний. Когда дворник в дворницкой, в подвале, кочергой громко треснет о черенок лопаты или двинет ломом для колотья грязного льда в ветхую, гиблую стену – просыпалась. Проснусь и молюсь: Господи, дай спящим – сон, любящим – сон про любовь. Кому, огромному и недужному, снимся мы, малые букашки, древесные земные жучки, в кромешной и сумасшедшей черноте Божьего неба?!..
Дворницкий дом, кабацкое молчанье. Кто бушевал в том доме до – меня? Ночью голоса наваливались на меня, кричали в уши, вопили и пели. Это были не ресторанные сны. Люди живые пели и плясали мне свои отгоревшие жизни. Вертелись и плакали цыганки в цветных тряпках. Безумствовали оркестры, и брызгал пот от музыкантских лбов. Шла старуха с подносом, чашки катились, накренясь, и разбивались о паркет – и под чепцом сверкали – на старом, высохшем лике – мои, мои глаза! Одежды шелестели, тела мерцали, остро и жарко пахли; расстегивались пуговицы, рвались ленты, хлопали резкие росстанные двери, – чьи лошади ждали, топчась, у ворот?!.. Тоже мои?!.. Это все была я. Все эти прошлые мужики, все бабы. Они разрывали меня надвое своею болью, как завесу в храме. Я вертелась на топчане веретеном. Пружины скрипели, смеясь. На мокрое лицо мое глядели в окно ножевые звезды.
И я вскакивала с калечного диванишки, задирала лицо к пустому потолку, где в щелях жили жуки, и пела дико, рьяно:
А – эх! – мои вы кони благородныи,
А – эх! – мои вы златы пироги...
Попробуй тронь!.. – умру, умру свободною,
И вдаль уйду, где ни звезды, ни зги...
Дом ухал мне в ответ на песню пустыми чахоточными легкими.
Ходила я, ходила так ночами, и доходилась. Однажды нарядила меня Испанка махровой гвоздикой. Мы плясали перед ночными людьми до упаду, до сладкого пота меж лопатками. Они швыряли нам веселые расписные бумажки – Испанка их собирала в подол, казала зубы толпе – голубую искру меж смуглых щек, – это были безумные деньги, больные, и, может, за них-то возмездие и настигло. В черный разлив ночи, волчий и совиный, закончилось варьете. Испанка хватала меня за руки. Я смеялась, вырывалась и убежала от нее, не сдернув цветных одежд. На воле мело белым, алмазным. Я бежала сначала каменными угрюмыми лощинами, потом влила реку тела в проходной двор. Там стояла телега, вся занесенная снегом. Лежал круг сдутой пустой шины, весь седой на морозе. А я бежала в ярких тряпках. За мною послышалось дыхание, кряхтение, скрип. Морковный хруст. Меня изнутри обдало кипятком, и я решила не оглядываться. Думала – убегу. Если б в любимой мешковине одной – улетела бы. Ноги сами несли. А тут Испанкины навороченные слоями, как сливки на торте, лохмотья. Как она кричала: "Красота!.. Красота!.." Меня красота погубила. Настигали. Трое. Может быть, четверо. Тьма страха укрыла веки, виски. Вот уже цепкая лапа схватила плечо. Тот, кто обогнал, дал ловкую подножку. Я свалилась – носом в снег. Спину мою прижали коленом. Топтали ногами. Я узнала, каково это – когда ходят по тебе; ходят по загривку, по хребту. Когда крестец хрустит, как снег.
Они катали меня по снегу. Валяли. Ломали меня, выворачивали руки. Я пробовала кусаться. Они вырвали мне сережки – подарок Испанки; сорвали красную, с багряными кистями, шаль, совали в рот, пытались затолать в глотку мантилью. Думали умертвить мой крик. Я заорала! Крик вышел из меня, как ребенок! Резали ножом, прямо на мне, алые, синие наряды. Разрывали лезвием кожу. Кровь текла на снег. Я знала, что будет еще страшнее, и уже не страшилась. Ясно, кристально текла мысль. Я видела себя со стороны и чуть с высоты. Было больно, печально. Они распяли меня на снегу. Тыкали ножом в живот, надсекали подмышки. Кололи ребра. Я уже не кричала. Следила, как алеет чистый снег вокруг меня, набухает ужасом и страданием. Мои запястья и щиколотки были прижаты к ледяной земле чугуном коленей, клешнями нечеловечьих рук. И это были люди. Люди – все у них было устроено как у людей; двое крепко держали меня руками и ногами, третий сопел, отдуваясь и задыхаясь, плюясь перегаром, всовывая в меня себя: человечий отросток, земную плоть, белемнит – чертов палец. Я захлебывалась солью чужого наслаждения, а в это время два других беса чертили на мне остриями ножей кресты. Один, другой крест – я хорошо чувствовала, что это кресты, я выгибалась, чтобы их, сочащиеся кровью, на себе увидеть. Не могла. Слишком сильно прижимал меня к заметеленной земле сначала один; потом второй; потом третий; а потом кресты слились в одно красное Солнце, и тут я ничего не помню.
И все затянулось, как плохая рана, синей, плотной кожей тьмы. И я стала видеть не глазами, а затылком, пальцами, пупком, пятками. Синие зубчатые горы стояли вокруг меня. Я шла к источнику с кувшином за белой водой. Нищие тетки сидели на дороге вдоль моего пути, скалились. Тянули ко мне дрожащие руки. Во всякую ладошку я клала старую денежку. Раздавала улыбки направо, налево. Раскосый, бородатый и длинноволосый разбойничий Будда приходил к холодному источнику и любил меня. Я знала, что это нищая Шамбала. Там валялся на дорогах такой же, как у нас, мусор вперемешку со снегом; но там был раскосый Будда, и он называл Исуса: "Исса, сын Мой", – не потому, что Он был его сын, а потому, что сильно любил Его. Это потом их сделали врагами. Вложили им в руки огненные мечи. А они сидели рядом в нищей Шамбале, пили из каменных пиал, тесно сдвигали лбы. И так сидели, подобно памятнику вечной любви.
Может быть, я проснулась потом. Проснулась – грязный песчаный и глинистый берег большой, как свадебная простыня, реки. Поздняя осень. Снег еще не лег. Дебаркадер с белыми некрашенными колоннами вмерзает, качаясь, в ледяную воду. Отражение его в воде – призрак. Я сплю под забытой в зиму просмоленной лодкой на чужой рабочей фуфайке. Зябко, смертно, зимне, и я кажусь себе смотанным в клубок живым канатом, вервием, которому больно. Оно оставлено здесь на зиму, и его развяжут лишь по весне. И, может быть, на нем повесится старый бродяга, поднимет дрожащими руками лодку, чтобы лечь под нее, как в могилу, и подумает: вот счастье мое, вот мой покой.
Ты мой покой, подумает и старик бакенщик, он – вон, рядом со мной, спящей, ругается крепко и просто, пытается поймать ноябрьскую плотицу сетью-пауком. Глупый. Бедный. Никого ему не поймать пауком. Никогда.
И опять я пыталась разорвать стягивающуюся намертво рану ногтями, зубами! Если мрачные края сошьются – я больше не вылезу наружу! Пусть меня распнут еще раз и еще; пусть убьют; пусть пытают; это муки жизни. С молчанием, со льдом колодца смерти их не сравнить.
И я услышала опять свое хрипенье. Услышала свой рык. Свои ругательства. Свой крик. Свой ор. Он пронзил проходные дворы. Он заставил отшатнуться распинающих меня. Я вопила, билась в вопле, и я внезапно поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я навек поняла, что:
СМЕРТИ НЕТ.
Я содрогаясь от счастья, бесповоротно поняла, что
СМЕРТИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,
потому что ощутила себя – во всех жизнях и все жизни – во мне. Все было во мне и я была во всем. Это было так просто, что я кричала от счастья. Те трое, четверо или пятеро, та безъязыкая толпа схватила меня и несла во тьму, тащила, ломала мне голодные кости, затылком я видела мелькание черных и серебряных сугробов, изморозь на избитых камнях, лестницу, пропахшую далекими криками и далекой кровью, меня волокли по ней, о ступени стучали мои виски и пятки, и в темной каморе ждали и визжали еще люди – да, люди, ибо все человеческое было у них; и они также распинали, распяливали меня на каменных плитах, и я утыкалась носом в плевок, и в раззявленный рот мне лез брошенный, еще горячий окурок; и я слышала оголтелый звон тимпанов, рев дудок, бряцанье систров; из табачного тумана лезли еще и еще рожи, голени, чресла, отлетали пуговицы срамных одежонок, зияли прорехи; и когда мною натешились воолюшку, наизмывались, наглотались всласть моего смертного крика, живого, бьющего фонтаном, кровью из великой жизненной жилы, – подтащили меня, подпинывая, матерясь, прижигая голые плечи и брюхо окурками, к раскрытому окну, раскачали и бросили прямо в ночь. Я царапалась обратно, вцеплялась в подоконник, вопила, обнажая зубы и язык, но все было напрасно – меня выталкивали, отдирали с мясом мои цепкие руки и ступни, пихали в затылок, в шею, били наотмашь в спину, и, наконец, я полетела вниз – не раскинув руки, а грубо и бескрыло, камнем, топором на дно зимнего, крутящегося бешеного мира.
И, падая, я разбилась на много кусков, и посланные наутро люди и нелюди находили внизу, под окном, мою окровавленную ногу, кисти моих рук в браслетах, не сдернутых насильниками, лоскуты моей кожи, лопасти лопаток, арфу сухожилий, мой череп – мою бедную голову с настежь открытыми глазами, продолжающими видеть все – и белесое молоко неба, и худую ведьмину метель, и трясущиеся руки бандитов в грязных перстнях, собирающие мои зрячие останки, и мои белые, поседевшие за ночь волосы, нищие пряди, бьющиеся на ветру.
Ее гуляния по Армагеддону расходились кругами.
Она шла по кругу из центра; охватывала любовным взглядом плоские и островерхие крыши, нагромождения бетонных свай, тяжелые деревянные слеги, блискучие сотовые окна Вавилонских Башен. Внезапно она останавливалась, садилась на снег, доставала из-за пазухи сверток с едой, разворачивала изтрепанную бумагу, брала пальцем простую еду и важно ела. Она не видела глаз, не слышала голосов. Она всегда была сама с собой, а пережитые смерти защищали ее от хулы и поношения.
Поев, она шла обратно, возвращаясь на круги своя. Ночевала где придется. Чаще всего – на чердаках и в подвалах. Сбивала замки кирпичом. Влезала в разбитые слуховые окна. Сторожа знали ее, жалели, открывали, что поплоше – каптерки, сараюшки. В своем мешке она сворачивалась клубочком и крепко засыпала, и видела сны, и говорила во сне.
А наутро снова шла по широкому кругу, по солнечной спирали, преодолевая препятствия, перелезая через частоколы и заборы, проползая под землей в грязных трубах; и, когда выходила она на простор и ее обступали Солнце и воля, она шагала широко и легко, точно ставя на снег узкую ногу, и во ржи ее волос пел ветер, текли реки, вили гнезда галки и вороны, цвели васильки, путались хлебные корки.
Она по кругу катилась, как Солнце, и шла на закат. Ей навстречу однажды метнулась птицей мрачнолицая женщина с длинными по-египетски, агатовыми глазами. Ксению пригвоздили древние глаза, распластали по замызганной кирпичной стене. "Кто ты такая?" – "А ты?" – "Я первая спросила. Не хочешь – не отвечай". – "Пойдем со мной – узнаешь". – "Хитрая!.." – "Не хитрей тебя".
Это все сказали глаза друг другу. А рты бормотали:
– Извини, подруга. Может, не так поглядела...
– У тебя слишком тяжелые зрачки. Буравят...
– Да я несчастная. Муж у меня ненавистный. Ух, убила бы его. Задушила бы, не охнула. У меня есть любовник! Чудо. А муж сволочь. Муж не лапоть, с ноги не сбросишь.
– А ты попробуй, сбрось. Освободишься.
– Тебе хорошо говорить. Ты свободная. Чужими руками здорово жар загребать. Я убью его. Что скажешь на это?
– Убей. Только потом не вой на Луну.
– Ну и повою. Не заржавею. Не обеднею.
Две женщины разговаривали о любви и смерти – что было странного в этом? Пролетели два, три слова, и Ксения узнала, что египтянку зовут Катя Рагозина, что любовник любит ее до безумия, что она уже приготовила для мужниного гроба чистую рубаху и полотенца, а также на выбор: страшный белый порошок без запаха, от него, по слухам, через миг задыхаются, падают мешком, остро заточенный кинжал – ну, это детский сад, это ж просто смех!.. как она его ему всадит-то, не умеючи, под какое ребро!.. оцарапает только, а он ее за руку – хвать!.. и за решетку!.. а то этим самым кинжальчиком – и тюк!.. – и ну его совсем, кинжал этот, а вот насобирала она в чахлом лесочке близ Волчьего Логова настоящих поганок, жутких, тонкошеих, в бледнозеленых кружевных юбочках, и засолила по всем правилам, – вот это будет верняк, Ксения, натуральный верняк. Чистая работа будет. Как жалко лет, прожитых вместе. Как просто: выпить водки, заесть солененьким грибком. Ух! вкуснота. И рот утрет, и ус закрутит. Он у тебя усатый?.. Да, собака. Так бы все усы и повыдергала. До того ненавидишь?.. Да, ненавижу. А любила? Да, любила. И помнишь, как любила? Ничего не помню. Ничего.
Катя Рагозина схватила Ксению за холодную красную руку и потащила за собой. Домой?! Да, домой, ибо дом человека – везде. Даже там, где тебя ненавидят. И ты ненавидишь. Ну уж нет! Мой дом там, где ветер и воля. Но бежали, бежали по утлой слякоти, шли по водам сизых подмерзших луж. Подталый снег скалился выветренными серыми зубами. Деревянный дом, деревянная жизнь. Деревянные грибы из деревянной миски. Катя кормила Ксению на кухне, среди сальных огарков, из оловянных мисок, и картошка была столь твердой, что Ксения глотала ее, как камни. Кривые вилки и изгрызенные алюминевые ложки, светлые, как сумасшедшие глаза, дрожали в руках, падали на пол, и Катя вздрагивала и шептала: "Баба придет... Мужик придет".
– А когда придет муж? – спросила Ксения шепотом и расширила глаза, и стали они круглые, как страшные маленькие грибы в тайной баночке за жирным стеклом серванта.
– Когда-нибудь и придет, – зловеще сказала Катя, и клык ее в свете тусклой кухонной лампы сверкнул резким золотом. – А ты не думай об этом. Ешь. Я тебя не в свидетели позвала. А чтобы подружиться с тобой. Потому что я тоже человек. И мне страшно. Мне страшно одной. Как это я – сделаю убийство, и что – останусь одна?.. Со своей душонкой... одна?!.. А тут ты. Ты хороший человек, потому что бедный. У тебя башмаков нет. И шубы тоже нет. А бедные всегда лучше, чем богатые. Я богатых тоже ненавижу. Они бедных съедят, с потрохами, и не пикнут. Я бы богатых тоже убивала. Люди людей убивают, а нам телят не велят. Так-то, Ксенька. Лопай. Может, и ты меня пожалеешь.
Чсы на стене, с римскими, в виньетках, цифрами, с золотой Луной маятника, пробили тринадцатый час. Грохнула деревянная дверь, запахло сыростью и водкой, и вошел муж Кати Рагозиной. Доха его разлеталась на два крыла, из огромного рта летел перегар, на виске чернела заросшая дыра старого шрама. Росту он был невысокого. Бритая голова отсвечивала сусальным золотом. Его белые, бешеные глаза сразу вонзились в Ксению, как охотничьи пули.
– Это что, новая курвочка?.. – ткнул он в Ксению сучковатым измазанным пальцем, – опять в яме подобрала, сердоболка?.. Кормишь... питаешь. Моими кровными! Сосцы питающие, лядвия жадные. Та-ак!
Ксения резко отшатнулась от тарелки. "Извините", – сказали по-собачьи ее смиренные глаза. Она видала штопку исподней жизни, видала и ее парчу – чего ж ей было бояться? Ну, выгонит. Ну, побьет. Еще раз по ней ногами походят. Еще раз хребет сломают.
– Не тронь ее! – яростно крикнула Катя. – Не видишь, кто она! Не так на тебя взглянет – и тебе каюк. Понял? Дай нам на бутылку красного, сладкого. Где твои усы?
– Тебе явилось дело до моих усов? – Он нехорошо усмехнулся, сбросил доху на пол, наступил на нее сапогом. – Сбрил. И долыса побрился. Есть гони! Дело провернул. Выдохся. Трясся в железной кабинке ночь и весь день, сильно гнали, уходили, надо бы успеть. Для тебя стараюсь. Как об стенку горох. Ты лед! Но я не ледоруб! Есть! Быстро!
Катерина метала на ковчег стола посуду. Пока муж Катерины ел, Ксения глядела на желваки на его скулах и содрогалась всем телом. Он ел и пил, смачно и зычно ругал жену, щурился, жмурился, щупал синеву на месте сбритых усов, потел и розовел от выпивки, еды и тепла. Катя молчала. У Ксении кружилась голова, болела сердцевина лба, то место, где у Цариц сияет белая звезда. Миг был пойман. Когда объевшийся муж начал падать на бок, Катя подхватила его и привычно, пряча за сцепленными зубами угли ругательств, поволокла – и ноги его зацеплялись за ножки кресел и шкафов, царапали сапожными пятками половицы – в кровать, спать, спать, в небытие. За грубо покрашенными дверьми таился альков. Ксения слышала, как грохнули об пол стащенные сапоги, как зашуршали у Кати в пальцах выкраденные из кармана кредитки. Потом настала гневная тишина.
Господи, помоги бедным людям. Помоги им жить и умереть.
Если это возможно.
Ксения закрыла глаза и забормотала молитву, ей мать ее научила, корявую и нежную, из двух слов состояшую. Она изнутри видела свои красные сомкнутые веки и кольца туманного небесного света, что держат в зубах, улыбаясь, шестикрылые серафимы. Свет сгустился и перешел в звук, тягучий и бесконечный. Веки стали тяжелыми и неподъемными, как снулые красные рыбы. На ресницах выступила деревянная соль. Колокола и бубны забили под ребрами, и она ухватила краем сознания, растворившегося, как сода в воде, что выходит из тела своего, что руки – не ее, ноги – не ее, мысли подо лбом и сердчишко в груди – уже не ее, не ее, и волосы не ее, и живот со следами шрамов от мужских зубов, и пятки. И горящее лоно, ждущее прелюбодейства и преступления, ей уже не принадлежало. А кому?! Кому?! Глаза тяжелыми агатами ходили и перекатывались под чугунными веками, зыбь дрожи шла по белой реке холодной кожи, руки ощупывали чужое тело, и чужая память услужливо подсказывала: Катерина. Тебя зовут Катерина. Красивое имя. Гордое. Царское. Знаешь, Катька, муж храпит. И сейчас придет твой хахаль. Нет любимее. Что вы с ним задумали – сотворите теперь?! Или века спустя?!
Мы не из робких.
Слушай. Слушай звонок или стук.
Забарабанили в окно. Трещины зазмеились по испарине стекла. Она метнулась к двери. Бросила беглый, изумленный взгляд на себя, застывшую в кресле напротив. Что это за тетка? А, я с улицы привела. Жалко стало. Голодная. А у меня всегда есть чего пожрать. Почему она сидит и спит сидя, в мешке? Подарю ей старые бусы из поддельных янтарей и дам с собой риса мешок. Мешочная дура понесет мешок риса, к груди прижимая. Будет за меня, добрую, всю жизнь свечу ставить. Ой! Она спит... с открытыми глазами! Они открыты и сияют. А у меня?.. Где зеркало... вот... Тоже сияют. От счастья. От предвкушения тела, любимого мною. В каждой веточке любимого тела, в каждом его оборванном листе – душа; любимое тело вонзается, входит, врезается, втыкается, липнет – это любимая душа хочет войти в любящее тело и стать душой тела любящего. Хочет стать одной душой на двоих. Не жирно ли будет?! Ишь, владыка. Двух сразу ей надо. Не плачь. Разберемся. Глаза горят, пылают. Живот исходит жаром, скользью, слепотой, горечью. Он идет. Открывай скорее, цапля.
Швырнула ключ в угол. Он влетел, поджарый конь, высота его соперничала с худобой. Весь горел под одеждами, подобрался, как перед прыжком. На огромный круглый лоб спускался темный язык коротко, по-воински, стриженых волос. Она губами ощупала его улыбку: настоящая. Жжет. И тощие сильные руки жгут, сквозь черную кожу одеяний.
– Как сияют твои глаза.
– Да брось, не мели ерунду.
Давай схватимся, обнимемся крепче. Так крепко, как только сможем. Какая железная сила в объятии! Крепче объятия только сила неостановимого броска Земли в черной пустоте. Обними еще крепче, если сможешь. Где ты? Вот я. Сделай мне больно. Проколи меня. Сцепи клещами. Я с радостью делаю тебе больно, и твой сверкающий стон – продолжение моей жалкой жизни на земле. Земля летит, и мы с ней. Примазались. Лети во мне. Рассекай меня крылом. Неужели я такое тебе небо? Да, ты небо мне. Ты мое небо и моя земля. Ты моя женщина и камень под моей стопой. Я попираю тебя, и я собираю тебя. Кричи, раздавленная мной. Да будет сияние вознесенного крика. А-а! Не здесь. Возьми меня на руки и неси. Одно из перьев в крыле – я. Тысяча перьев, тысяча женщин. Ты мое горящее перо. Я не выдерну тебя из себя никогда.
Он внес ее на руках в спальню, за дырявой ширмой храпел муж, и прямо на холодном полу, на грязных плоских досках, обдуваемых сырым сквозняком, на розе невидимого креста, где Север – голова, Юг – нагие рыбьи хвосты ног, Запад и Восток – рука и рука, раскинутые поперек ледяных половиц, они быстро и жадно раздели друг друга, содрав друг с друга одежды, как пьяница-инвалид сдирает шкуру с высохшей дотла рыночной воблы, и, продолжая гладить друг друга и целовать, стали вминаться друг в друга острыми и гладкими выступами горячих потных тел, которые были лишь жалкими, бедными выступами, теснинами и скалами душ, их сколами, их нехитрыми, бедняцкими слепками, и восхолмья и вмятины неловких, несчастных душ вонзались и впивались друг в друга, друг к другу прилипали, друг сквозь друга протекали горячим питьем, потом, нежной дрожащей слизью, ярким соком розы, склеивались осколками, вжимались складками и впадинами, и там, где совпадали – тика в тику – вершины и ямины, столбы и провалы, дрожь великого счастья покрывала несчастную, неуклюже слипшуюся поверхность, горящую липкую корку, и сварка диких живых металлов застывала на пустынном сквознячном ветру, на голом полу, близ горящей тускло лампы, близ тускло горящей, нищей жизни. Так любили друг друга любовники, и любовница сияла все ярче, а любовник входил в разверстую пещеру любимого живота торжествующе, по-царски, и вот уже живот кричал, и руки кричали, и ноги кричали, и жизнь женщины останавливалась в страшной радости непобедимого крика, и его невозможно было заглушить ничем – ни земляной, грязной ладонью, ни костистой грудью, ни угрозой разлуки. Ты жизнь моя, женщина! Ты моя женщина, жизнь. Мы убьем всех мужей. Мы станем одним андрогином, одним волчьим телом. Мы убежим в леса. И пусть охотники нас убьют на вольной охоте. Не отцепляйся от меня. Будь внутри. Я так давно тебя искал. Гляди, вместо красной горячей пропасти вокруг меня сомкнулось крепкое кольцо. Ты сжимаешь меня. Ты сожмешь, сдавишь, выпьешь меня. Ты любишь меня. Ты так любишь меня.
Не расцепляясь, они говорили. Шепотом кричали. Смеялись. Стонали, выгибаясь, катаясь по полу клубком. Храп из-за ширмы пугал их.
– Давай всунем ему в рот грибочек, пока он спит?.. Он и проглотит.
– Он задохнется. Кашлянет и выплюнет.
– Проглотит!.. Дай запить ему вином. Вино все затянет пеленой. Ничего не поймешь. Заспит.
– Он уже не проснется. Но как...
-...как мы разорвемся?.. А-ха-ха!.. Никак. Вот так и будем теперь жить. Так ходить, есть, спать... смеяться!.. Ха, ха, ха, ха...
Соблюдая обряд, они, не разлепляя горячей глины тел, подползли к шкафу, выцарапали оттуда баночку с грибочками, покатились, вздымая банку над растрепанными головами, туда, за ширму, где оглушительно храпела смерть. Дышали тяжело. Оперлись локтями о край кровати, о заберег засаленного белья. Крышка покатилась в щель, грибочек добыт тонкими пальчиами. Рот, целованный ею многажды, рот без усов, синяя щетина, вино на подбородке. Ну, ам. За маму. За папу. За любимую жену. Кушай еще. Еще. Еще. Ну и еще, вот. Умница. Хороший мальчик. Ешь, зверюга. Сдохни скорее.
Он хрипнул, хрюкнул, забулькал, крякнул скрипуче судорожной глоткой, грибочки падали в нее, как свинцовые грузила в пасть хищного старого сома. Яд она сотворила сильный и мгновенный. Он выгнулся брюхом вверх, забился, запрыгал грузным телом по ложу, задергался в сетях пахнущих человечьими соками тканей. Сколько длится прощание с жизнью? Два лица, сдвоенная бледная Луна, уперлись в картину агонии, застыли. Минуту назад они знали только свою любовь. Теперь они узнали чужую смерть и напугались.
Они, намертво засев друг в друге стонущими занозами, поняли, что корчи и расставание с воздухом и светом ждет всех. И эти все – были они; и он, корчащийся, невинный, – опять были они; и дерево за окном, и заяц в лесу – снова были они, и они были обречены смерти, и они до боли в костях не хотели ее. А она кричала им из уходящего тела: "И вы мои! И вы мне нужны. Я люблю вас. Я вас люблю. Я жду вас".
Обритый долыса человек выгнулся на грязной кровати последний раз и затих. Из угла рта его побежала синяя слюна.
Ужас объял любовников. Их глаза остекленели. Рты раскрылись. Они выталкивали ужас наружу дыханием, но ужас влетал обратно в грудь через хриплые глотки.
– Кончено, – выдавил возлюбленный, содрогаясь крупно, медленно.
Банка с грибами перевернулась, серые слизи вывалились на горбатые половицы. Он умер. Умер. Она убила его. Убила. Ее воин прижал к себе ее, добычу. Дорогой ценой добыл ты ее, парень. Дорогой ценой.
– Ты, ты не плачь, не бойся, – губы его прыгали и улыбались, – ты только не ори, с тобой сейчас пройдет. – Он закрыл ей раскрывающийся, как у рыбы, рот потным голым лбом. – Мы так давно этого хотели. А теперь мы вместе. Вместе! Дура! Не поняла! Трясешься. Тихо. Тихо. Люблю тебя. Я же люблю тебя. Я же больше жизни люблю тебя. Я же больше жизни... лю...
Она вцепилась зубами в его голое плечо. Исступление росло, скатывалось в огромный снежный ком, забивало ей уши и ноздри. Свобода, за которую заплачено ужасом, хохотала над ней. Она выгнулась в жилистых руках любовника, вертясь, угодила локтем ему в лицо, разбила губу. Он ловил ее за шею. Ломал ей сведенные судорогой руки. Орал:
– Тихо! Тихо!..
Молнии били в нее и из нее, живые руки ее не могли пригвоздить и спасти, все рвалось, летело и трещало по швам, ужас залеплял ей глаза, вставал в глотке костью гигантского Ионина Кита, ее выворачивало наизнанку, не хуже, чем от тех грибочков могло быть, своя стряпня ближе к брюху своему, это понятно, но отчего идет волною тьма, железная тьма сжимает квадрат света, и держат ее, истязая, уже не живые родные руки, а железные крючья, и на деревянные копья насажено ее орущее нутро, и железные гвозди, те, что потеряли по дороге старые римские солдаты, синие от мороза гвозди, вонзаются в ее запястья и ступни, – Боже, Боже, зачем Ты оставляешь меня, я же человек, я не хотела убивать, лучше убей меня, лучше раздави стопой Своей, чтобы не видеть мне мертвого тела человека, с которым я прожила много красивых хлебных лет. Боже! Зачем Ты вырываешь мне внутренности! Ведь я же не собака! Ведь не устрица я, чтоб меня из раковины – вон, с мясом! Убей меня милостивее, чем я убила его! Не рви меня на части! Не загоняй в меня дикие крючья! Не выдергивай с визгом переплетенья нутра! Будь милосерден! Я не оказалась пред Тобой человеком – будь со мной Богом! И тогда я поверю, что Ты Бог!
Тиски тьмы сцепили ее залитые холодным потом виски, и она полетела вниз и вбок, кося слепым вытаращенным глазом на вихренья миров вдали и вблизи. Возлюбленный неистово сжимал ее, тряс, плакал. Последнее, что накатывалось на нее, – белое и жаркое пятно круглого света, вылезающее из грязной тьмы, слепящее глаза и освещающее все изъяны тела и потайные нищие мусорницы духа; резкий правдивый свет, сходный с солнечным, но ярче, жесточе и голоднее. Пятно сожрет ее, подумала она, проваливаясь и летя, и это было последнее, что она запомнила, будучи Катериной Рагозиной.
ПЕСНЬ КСЕНИИ ПО ВОСЧУВСТВОВАНИИ В СЕРДЦЕ ЕЯ ЖИЗНЕЙ ИНЫХ ЛЮДЕЙ
..........................лицом в снегу, очнуться, на Площади. Жить. Опять быть. Ну и живуча! Как муха. Кто с кошкой сравнит. Кто еще с каким зверем простецким. Почему я здесь? Кто насовал мне в морду снег? Кто уложил меня ничком посреди Площади сирой?!.. А?!.. Молчите. Никто не хочет отвечать. Ну и отвяжитесь. Ну и...
Я поднялась, сперва на колени, потом на четвереньки. Богато и строго одетые люди и важные железные повозки сновали по кругу, как белки в карусели, вокруг меня. Я бредила, я торчала в самом сердце засыпанной снегом по горло Площади, как изюм в булке. Где я была?.. Кто-то выбросил меня за ноги с высокого этажа?.. Почему на локтях и запястьях у меня синяки, как от злых пальцев?.. Попала в переплет, это ясно. Может быть, водку в меня влили. Не могу вспомнить. Кто мне по голове дал молотком или доскою, что ли?.. Если бы человек помнил в с е, сколько лет он мог бы жить на свете?.. Три года?.. Пять лет?.. Десять?.. Забыть – это самое главное счастье. Ты рождаешься во второй раз. Ты ничего не помнишь.
До ушей донеслись звуки заунывных труб. Люди, горбясь и сжимаясь в некрасивых черных пальто, ежась и пряча головы во вздернутые воротники, шли за грузовиком, в кузове голо и красно сверкал гроб, восково просвечивала на резком зимнем Солнце мертвая голова. Оркестранты, дуя на обмороженные руки, бухали в медные тарелки так, будто хотели их разбить и отшвырнуть в сугроб. Красно, безумно горели под синим индиговым небом, в окруженье мертвых снегов, медные тубы и тромбоны. Ду, ду, ду, пу-пу. Музыка смерти. Так вот чем все кончается в жизни. И ты сделала это сама.
Ты?!
Ксения отняла лицо от снеговой грязи.
Я, я, я. Я, бродяжья тварь. Я ясно вспомнила свое имя. Я вернулась в себя. Вот оно, Кочевье по Душам. Этого ли ты просила тогда, в Дацане, прижимаясь к худой материнской груди?! Этого хотела – тогда, на сером морском берегу, под кнутами ветра и брызг?!
Кто ты такая, Ксения?!
Я-то?!.. А человечек я. Меня все трогают. Пощупать пытаются. Оторвать кусочек. И съесть. Не трогайте меня, думала я всегда, дайте мне спокойно жить и ходить там, где вздумается мне. А меня все трепали! Все дергали, рвали! Облизывали! Зубы всаживали! Рычали! Пинали! Катали и валяли! И я...
И ты?.. Что?.. Озлобиться должна была, да?!..
Да! Я ждала этого в себе! Спрашивала себя то и дело: "Ну как?.. Озлела ты или нет еще?.." Но тихо было там, где в человечьей душонке иной раз ночует Сатана. Молчало. И я не стала больше думать так, чтоб от меня отвязались. Все перевернулось. Оборотилось все. А когда, я и сама не заметила. "Трогайте меня все! – кричало во мне, пело, – грызите. Кусайте! Нате меня! Я ваша. Вы – это я. И я – это вы. Не вижу разницы. Кто нас разделил?! Бог?!.. Но ведь ваши волосы – мои волосы, ваши глаза – мои глаза. Я плачу вашими слезами и смеюсь вашим смехом. Так где же тут справедливость, что вы гоните меня взашей, а я смотрю волком в ваши спины?!"
И как только я сказала себе: вы и я – одно, – тут-то все и началось. Голова моя загудела, и я стала путать времена и лица. Я стала называть себя другими именами, тысячью других имен. Сегодня я не знала, как меня будут звать завтра; а завтра забывала, как я звалась вчера. Лишь Ангел носился надо мной в темноте и хрипел: "Ксения". Я не Катя Рагозина. Я не убивала этого человека. Не убивала! Не убивала!
Скос глаз на синее, желтое, выпитое страхом лицо. Брям и грюк и дзынь меди. Завыванье голодной музыки на ветру.
Ксению шатнуло, выломало ей плечи, вырвало на колючий слежалый снег, вывернуло наизнанку.
С этих пор она могла вселяться в людские бродячие тела и спасать людей от беды, если беда подстерегала их; если людей поджидала радость, Ксения изнутри, из чужой души, радовалась этой радости тоже, и люди испытывали сильное счастье, ибо оно удваивалось и удесятерялось. Это странствие по душам было не в ее воле. Она никогда не знала, кто откроется перед ней, как Царские Врата в храме; живые души плыли и расстилались в дыму дыханий, и она вступала в них, как девчонка в задранной рубашке – босою ногой – в холодную воду ручья.
Так жила она тысячу жизней. Так ее силу пили и пили слабые человеки – женщины, мужчины, дети, старухи, раскрашенные по-фазаньи девахи, кургузые старики в валенках – истопники, сторожа, кладовщики, – бабы на сносях и бесплодные матроны, несчастные любовницы и сцепившие зубы в камере смертников убийцы. Сама пройдя через убийство, Ксения поняла, что оно – не последняя ступень отчаяния, где кружится жаждущая отсечения и возмездия голова; что есть провалы во тьму еще более страшные, и даже она, счастливая в даре переселений и скитаний, не в силах отвратить бедняг от судьбы. Она не вершила судьбы, ибо не могла быть Богом; она просто проживала с человеком кусок его жизни, жевала его черствый ржаной, пила его горькую и пьяную чашу.
Она давала душам напиться вдосталь своей души – щедро, через край, плеская и расплескивая. Сердца бились то в унисон, то вразнобой. Времена слоились и смещались. Засыпая на рогожке где-нибудь на теплом чердаке или в холодной сараюшке, она боялась увидеть во сне лица, подобные лицу Кати Рагозиной. Она не хотела идти вброд еще раз через погибель.
И все-таки она увидела ее – грубую бабу, пугающую красотой тигрицы. Неоны расцвечивали ночь. У Ксении мерзли руки, ноги. С наслаждением она свернулась бы клубочком у ног теплого кафе. Окна горели медово, рыже. Колеса железных повозок, глупых машин, шуршали о камень мертвого города. Армагеддон готовился ко сну, зажиревший, надменный. Мороз усиливался. Все шли в роскошных унылых шубах, и лица людей стучали ресницами, как часы. Ненависть была нарисована на лицах морозом. Ксения прислонилась спиной к нарядной витрине, где мерцали срезы буженины, солонины, комья фольги, мотались пышные еловые ветки. Приближалось Рождество. Люди волокли на плечах, на горбах мрачные елки, связанные веревками в виде длинных селедок. Люди тащили в коробках большие хрупкие шары, туго скрученные цветные ленты, серебряные нити, похожие на летний ливень.
Ксения хотела елки. Боже, как она хотела елки! Кто бы позвал на елку бродяжку. Кто б накормил до отвала сладким пирогом. Тонкая улыбка прорезала розовый от холода Ксеньин лик. Пусть пирог живет спокойно. А вот елка... без нее – тоскливо и пусто в те часы, минуты, дни, когда она должна к тебе прийти. Да разве только в елке все дело. Дело в человеке. Вот мыкается она по душам. Спасает чужие жизни. А человека нет. А человека все нет и нет. Днем с огнем, даже если всучат ей в кулак самый яркий фонарь, и она будет ходить по лабиринтам Армагеддона, высоко, выше затылка, над собой и над людьми фонарь поднимая, она не отыщет Человека Любимого. Человек Любимый – это может быть Бог, сошедший при жизни в ее живую жизнь. Где был ее Юхан? Где был юный лейтенант? Единственные лица их заслонились тысячью иных лиц. Иногда, зайдя с мороза в парную, всю в свечных язычках, церковь, она ставила за них свечу, попросив ее, как милостыню, у суровой продавщицы свеч, и крестилась широким крестом. Но елка! Елка! Елка – это божество. За елку самое можно ставить в церкви свечку. Облеплять ее свечками, как медовыми лепешками. Украшать, как древнюю женщину, серьгами, подвесками, бусами, ожерельями. Кормить, как ребенка, с ложечки – маслами и благовониями, посыпать темно-зеленые жесткие волосики блестками. У, елка!.. Ксения сладко и тоскливо вздохнула. Елка без Человека – коса без гребня. Нож без кулака. Человека у Ксении не было, и, прислонясь горячей, под рубищем, спиной к холодному стеклу витрины, она горько и светло плакала, глотая слезы, как лакомство.
Кто плыл в толпе? Эх, толпа, моя семья. Мой родной хоровод, идущий вкруг меня, как вкруг елки. Может, я елка и есть? Тогда нарядите меня. Возьмите в теплый дом, поставьте в крестовину. Укутайте мне ноги теплой пушистой грязной ватой. Посыпьте ее солью, чтобы блестела. Вденьте мне в уши висюльки и бирюльки, чтоб качались и звенели тонкой музыкой.
И так оставьте на всю жизнь.
И прямо на Ксению из толпы шла она – мужланка с грубыми, как стесанными секирой, прекрасными чертами, гром-баба, похожая на сивиллу. Щеки ее пылали малиновым густым светом. Изумруды в мочках мотались и свисали до шеи, до ключиц. Полы дубленки развевались. Она несла нечто в кулаке, придерживая у груди под шубой, на вид весьма тяжелое. Она шла одна, никто не семенил за ней, не сопровождал ее зайцем, прихвостнем. Челюсти ее были сцеплены намертво. Ксения, не думая, двинулась за ней. След в след. Снег летел на их узкие следы – в сапожке и босой.
Она шли, и шли, и шли. Улица подмигивала им с обеих сторон – вывесками харчевен, полымем рестораций и кабачков.
Она свернула за угол – и Ксения, моментом. Она рванула на себя тяжелую резную дверь богатого особняка – Ксения тенью втекла в ледяную пустоту жилища. Она цокала по мраморной лестнице каблуками сапог – Ксения неслышно струилась за ней босым ручьем, затаив дыхание, затиснув кулаки себе под ребра. Это были Женщина и Тень. Женщина встала перед тупым молчаньем двери, набычив лоб, и постучала кулаком. Тень вздрогнула.
Дверь отлетела крылом. На пороге стояли двое. Рожи стражников, одеяния денди. Царь-баба ослепительно улыбнулась им. Они осклабились в ответ, сделали широкий приглашающий жест, издевательский. Да, Хозяин дома. Ждет. Телочку заказывали?! Рыба прыгает вон из сетей. Но прежде сама заходит в сеть. Когда зайдет, уж поздно. Рви узлы! Тело разрежешь. А кто это с тобой, сзади тебя?.. А никого нет. Вам, дуракам, померещилось.
Они таращили свои глупые белые холопьи зенки и словно бы не заметили Ксению. Тень, босая и тихая, ступала за Женщиной так, как волки в снежной степи, голодные, идут друг за другом – лапа в лапу, коготь в коготь. Охранники пялились и не видели ее. Они видели – что-то мреет; слышали – что-то шелестит. Может, поля роскошной дубленой шубы надменной гостьи. Может, поземка залетела.
Каждый из них на самом деле видел ее. Но ни слова не сказал другому. Засмущался. Забоялся. Устыдился. Если тот молчит – а я-то зачем лишнего трепать буду?!..
Анфилады, вереница комнат. Колонны то обшарпанные, под седую древность сработанные, то гладкие, блестящие сладко, как сахар. В комнатах – елки, наваленные горками конфетти, висящие от угла до угла разноцветные ленты серпантина. И повсюду, там и сям – тела, тела. Люди, спящие вповалку. Дремлющие на диванах и в глубоких мягких креслах. Вот в калачик свернулись прямо на полу. Рты открыты в сладком храпе, в приторном медовом сновидении. Пирушка удалась на славу, еще допрежь Рождества. Не дождались.
Люстры, погасшие и горящие, мелькали перед Ксеньиными глазами. Она скользила за красавицей-мужланкой бесшумно. Переступала через спящих людей, как через тюленей на лежбище. Человека с застывшим от ужаса лицом – видно, жуткий сон бедняге снился – украдкой покрестила. На влюбленных, слившихся в объятии – лежали друг на друге, друг в друге растворяясь – посветила улыбкой. Шли, шли дальше. Вот и анфилада оборвалась. Конец. Тупик. Полый куб каморы, обои с блестками. И здесь елка. Увита нитями, на них лампочки горят тигрино. И глаза дикой бабы в дубленке зверино горят. Что она держит на груди, под шубой?
Ксения глядела вперед. Под атласным, спадающим грубыми крупными складками, балдахином смутно белело ложе. Горбатый выгиб дивана. Она прищурилась. Разметавшись пьяно и вольно, спал человек. Так спать захотел враз, что даже не стащил со лба новогодний маскарадный тюрбан. По полу, близ изголовья, валялись разбросанные бумаги, печатные листы, красивые картинки. Любовался на ночь. На столе, на расстоянии вытянутой руки, чтоб живо достать, – недоеденные яства: икра в фарфоровой миске, бутыли с темным и светлым вином, круги колбас, расковырянные вилкой рыбины, золотые бока лимонов, обкусанный сладкий пирог. Пирог! У Ксении остановились глаза, посветлели. Пирог, ее мечта. Ей никто и никогда не подарил ни платья, ни пирога к празднику.
Женщина, шедшая впереди, не глядя, взяла рукою пирог и жадно откусила от его. Снова кинула на стол. Другою рукой вытащила из-за пазухи топор.
Свет, брызжущий от ламп и елочных гирлянд, блеснул на широком лезвии топора. Женщина шагнула назад, и Ксения попятилась.
– Царь, кровосос, – негромко сказала баба с топором, – проклятый царь. Никто не смог. Все трясутся. Трусят. Ну, пожрал ты человечьей кровушки. Я одна насмелилась. Ты меня заказывал, ждал, да не дождался даже бабы. Объелся. Храпишь. Сейчас тюрбан твой полетит. Господи, помоги.
Женщина быстро перекрестилась. Изумруды в ушах качнулись. Она высоко подняла топор и крикнула:
– Последние твои минуты, сволочь!
Ксения глубоко вздохнула и замерла. Взметенный топор опустился с хряском. Сильная баба сработала как заправский палач, перерубила шею с одного раза. Голова покатилась с постели, расшитый жемчугами и золотом тюрбан слетел, пропитался брызгами крови. Женщина схватила голову за волосы и высоко подняла. Кровь лилась на простыни, на роскошную еду, в стаканы и недопитые рюмки. Женщина показывала казненного молчащей ночной спальне, словно морю людей на гудящей площади.
– Ты, кто стоишь за мной! – внезапно крикнула она, и Ксения похолодела. – Не двигаться! Держи!
Она протянула Ксении отрубленную голову. В усах и бороде мертвеца запутались крошки пирога. Ксения послушно вплела пальцы в кудрявые волосы головы, сцепила в кулак. Боже, какая тяжелая голова человека.
– Ты, бродяжка, – женщина обернула к ней лицо, глаза ее дико смеялись, брызгали зелеными искрами, – не трусь. Я убила гада. Я убила толстую сволочь, владыку. Он пил кровь. Нашу с тобой. И других. Он ел наше мясо. Он гноил нас. На земле и под землей. И никто, никто...
Она задохнулась. Ксения безотрывно глядела на капающую вниз кровь. Скрюченные пальцы ее занемели. Язык распух во рту и не повиновался ей.
– …никто не мог его уничтожить. Хотя очень все хотели. Громко вокруг об этом кричали. По углам шептались. Стонали. Проклинали. Но не могли. Не могли! А я смогла. Одна. Одна смогла. Не воинство! Не армия! Не наемники! Я одна!
Холодное молчание. Падение соленых красных капель.
– Держи голову тирана, девчонка. Присвой мой подвиг. – Красотка пугающе, грубо усмехнулась. – И наказание за меня прими. Сейчас сюда прибежит его стража. Дурачье. Охламоны. Он платил им драгоценностями из своих сундуков и девочками. Стой так! Не шевелись! Если шевельнешься... – Топор угрожающе высверкнул в пламени свечных языков. – Они возьмут тебя! Они подумают, что ты – это я! Пусть думают! Ха! Я знала, что ты за мной идешь. У меня глаза на затылке. Зачем шла за мной? Интересно было?! А если б я тебе топор показала по дороге, – пошла бы?!
Ксения ощупала глазами красивое тяжелое лицо убийцы.
– Пошла, – слово разрезало воздух, лязгнуло железом о железо.
Женщина окинула ее с ног до головы оценивающим и презрительным взглядом. Так глядят на умирающе животное, покалеченное под колесами.
– Ну и дура!
Повернулась, махнула хвостами дубленки, звякнула изумрудами, застучала, заколотила каблуками прочь, прочь, дальше, дальше – по сонному царству анфилад. Из далекой дали до Ксении донесся ее жесткий громкий голос:
– Не двигайся!.. Стой так!.. Молчи!.. Если дернешься – я тебя и отсюда достану!.. Это ты убила его!.. Ты!.. Ты!.. А не я!.. Когда тебя схватят, назовись моим именем!.. Ты прославишься!.. А я выйду через парадный ход!.. Как и вошла!.. Тебя выведут с головой на площадь – покажи ее народу!.. Пусть порадуются!.. Пусть покричат и посмеются, идиоты!.. Они даже ликовать не умеют!..
– Как тебя зовут?!.. – неистово крикнула Ксения в еловую свечную темноту анфилад, обернув негнущуюся шею. Рука немела. Голова, повисшая на волосах в кулаке, тяжелела.
– У-у-у!.. и-и-и-и!.. – невнятно и зловеще донеслось с далеких мраморных лестниц.
Ксения никогда не узнала ее имени.
В спальню ворвались люди, много людей. Стражники, охранники, повара, осветители, швейцары, блюстители порядка, дрессировщики с собаками, писаки, певцы, продиряющие со сна и с похмелья горло, бедняки-приживалы, подвыпившие гости, пробужденные истошными криками, официанты, женщины с испитыми лицами, приставленные для уборки помещения: расширенные глотки их выталкивали гремящий воздух, лица пылали, руки мельтешили и сверкали растопыренными пятернями, кулаки сжимали тяжелые раззолоченные шандалы, раздавался звон наручников, в темном воздухе копошились и гремели проклятия, ругательства, возгласы изумления и ужаса; Ксения стояла молча. Вытянутая рука затекла. Под потолком внезапно загорелся чудовищный цветок роскошной люстры. Свет брызнул и кинул в лица орущим и негодующим золотые сгустки Ксеньиных спутанных волос и яркие монеты глаз.
Один крик висел в воздухе: "Зачем?!.. Зачем?!.. Зачем?!.."
Ее схватили за плечи, затрясли. Затряслась и голова у нее в руке.
– Затем, – разлепила Ксения губы.
Воцарилась душная тишина. Народ перестал орать и метаться. В наступившей тишине голос Ксении резко раздавался и отливал металлом.
– Вот видите, что баба сделала. Одна баба, – слова из Ксеньиного рта падали, как камни. – Одна баба. Жалкая. Слабая. Дура баба. Трусливая. Одинокая баба. Не вы! – Обвела глазами, выцветшими до бешеной светлоты, публику. – Не целая страна. Не огромный народ. Не толпа заговощиков. Не революция. Не война. А баба. Просто баба. Баба с топором.
Передохнула. Все молчали. Под ногами Ксении разливалась темная сливовая кровь.
– Вяжите меня!.. Не можете?!..
Под ноги Ксении метнулась маленькая девочка с живой, громко закрякавшей уткой в руках. Мужик в кружевных манжетах зажал утке клюв кулаком.
– А серьги у нее – ух, красивые были... Изумрудные!.. – горько вскрикнула Ксения и заплакала, и отрубленная голова выпала из ее кулака с гремучим стуком и покатилась по полу.
И утка вырвалась из девчонкиных рук и стала бегать и летать по комнате, и крякать безумно, сумасшедше, и ропот поднялся в толпе, и все решили, и поодиночке и скопом, что да, конечно, она сумасшедшая, эта перепачканая кровью рослая женщина, что если это она отрубила тирану голову, то сделала это наверняка во сне или в придури своей, и что больных не трогают, а скорей всего, еще одна баба тут замешана, иначе к чему болтовня про изумрудные сережки, или это пьяный бред, но ведь от нее не пахнет ни вином, ни водкою, и, пока все так гудели и переминались с ноги на ногу, порешили ее, Ксению, отпустить – тою дорогой, какой она сюда пришла. Ей закричали: "Иди! Иди отсюда!" – но еще долго стояла она над ворчащей толпой, обсуждавшей ее и указывающей на нее пальцами, как на редкое, диковинное и страшное животное, стояла и обводила сияющими правдой и победой глазами диких и непонятных ей людей, и каждый в толпе был ей родной и понятный, и каждого она могла и хотела пожалеть и согреть, а вместе, стадом и кучей, они пугали ее и гнали: "Иди! Иди же, тебе говорят!.. Пока гонят тебя – иди!.." И когда она решилась и пошла, то люди расступились перед ней, образовав два шевелящихся головами и телами берега пустоты, и в пустоте шла она к двери по анфиладам, шла к выходу, шла на волю.
Она шла на волю, потому что воля была ее, а она принадлежала воле, и за ней по всем спящим анфиладам тиранова дворца шла маленькая девочкина утка, шла вперевалку, взмахивая пестрыми крыльями и резко крякая.
И так они вышли вместе, вдвоем, в свежую и снежную зимнюю ночь – женщина и птица. Ксения взяла утку на руки и прижала к груди. Происшедшее показалось ей сном, но это была правда, и Ксения печально подумала о том, что вот, где теперь она отстирает красные пятна, впитавшиеся в ее подол, где ей найти приют, где будет ее ложе в виде подстилки, таз, чтобы умыть унизанное холодным потом лицо и отстирать кровавый испод рубища. Теперь их стало двое – она и утка, и Ксения поняла, что вот едят птицу люди, а у нее появился друг; и как же она может его съесть? Даже умирающий от голода человек друга своего не съест, на то он и тварь, созданная по образу и подобию Божию; а им что в пропитание и на счастье эта ночь пошлет?
– Утка, утка, – шепнула Ксения в теплые пестрые крылышки, – я люблю тебя, утка. Я все живое люблю. И я сегодня голову мертвого человека держала; и я, будучи женщиной Катей, своего мужа убила. И ведь меня тоже недавно убили, милая утка. Убили. Разбили. Выбросили наземь из окна. Истерзали сперва, потом разбили о камни. И вот, утка!.. мы с тобой живы все равно. Как мне это понять?.. Где смерть, где жизнь?!.. Глупые мы с тобой, утка. Неразумные мы с тобой твари. Где наше пристанище, утка?.. Где наш притин?..
Утка молчала. Тесно, всем брюшком и воскрыльями прижалась к горячей Ксеньиной плоти. Утка знала, что за торчащими человечьими ребрами живет и дышит душа – малая живая душа, отвечающая кряканью – дыханьем, биению крыльев – биением крови. И, счастливая этим прижиманьем, прикосновеньем этим любовным и животным, прятала птица круглую теплую, как вареное яйцо, голову под мышку Ксении, и целовала Ксения птицу в затылок, и плакала от радости, что вот сколько смертей с ними было, а они спаслись; и глядела на румяные сладкие витрины, где вповалку лежали ветчины и сыры, бархатные ткани и заморские орехи, глядела на елки, несомые веселыми и грустными живыми людьми, и шептала птице в затылок: "Ничего, ничего!.. Будет и нам сегодня праздник!.. Не все же нам горе горькое!.. Будет нам и елка сегодня, и Рождество!.. Будет крендель, и свечки будут!.. Как в детстве!.. Как тогда!..”
И вот она, елка. Площадная девка; дылда занебесная. Вокруг крестовины, запрятанной в железный барабан, гуляла и взвывала поземка. С черных ветвей свешивались бумажные рыбы, дикарские яркие шары, распотрошенные шпаной хлопушки. Какие сережки на тебе, родная! Какие ожерелья!
Холодно тебе тоже, милая?..
Пряничка бы тебе... мандаринчика...
Ксения села под елку, прямо на снег. Спрятала утку глубоко за пазуху. Вздохнула. Против ее щеки горела выкрашенная дешевой краской лампада гирлянды.
У нее была елка; был праздник; был друг; была жизнь.
Оставалось, для полного счастья, запеть песню.
Ксения набрала в грудь морозного воздуху и запела.
Птица слышала ее пение, сидя за пазухой, и перебирала лапками от удовольствия и тепла.
Одинокие, припозднившиеся к праздничному столу ночные прохожие, столичные пьяницы, краснощекая молодежь, спешащая из гостей в гости, бродяги и богачи, останавливались близ поющей под елкой женщиной в мешке, ухмылялись, кидали на снег монеты. Старуха, в шали накрест, замедлила шаг, пошарила за пазухой, склонилась и кинула на колени Ксении черствую булочку – сахарное сердечко.
– На, поешь.
– Я люблю тебя, старуха. С днем рожденья Господа нашего!
И, пока горбатая от годов и болезней спина шаталась, удалялась в метели и зачеркивалась белыми полосами времени и снега, Ксения раскрошила на ладони булку, вынула уткину голову из-за пазухи, поцеловала в фосфорный зеленый глаз и поднесла ладонь с крошевом к голодному клюву: ешь, ешь. Вот он теперь и настоящий праздник.
Ешь; радуйся; живи.
Ведь снег все укроет. Все заметет. И нас с тобой.
А хорошо, утка, еще раз умереть в праздник.
“Плачу горько пред Тобою, Матерь,
Возлюбившая все грешные души мира,
Пресветлая Богородица, Солнце жизни нашей,
плачу и каюсь пред Тобой во грехах и страстях юности моея:
услышь мя, утешь мя, прости мя”.
Канон покаянный св. Ксении Юродивой