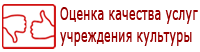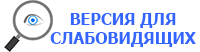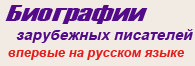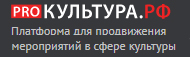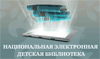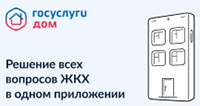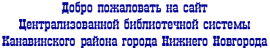
7
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«Въ царствование императора Павла входитъ въ моду дорогое изобретение французскаго кулинарнаго искусства, называемое roti a l'imperatrice. Рецептъ этого блюда заключается въ следующемъ: возьми лучшую мясистую оливку, вынь изъ нея косточку, и на место ея положи туда кусочекъ анчоуса. Затемъ начини оливками жаворонка, котораго, по надлежащемъ приготовлении, заключи въ жирную перепелку. Перепелку должно заключить въ куропатку, куропатку въ фазана, фазана въ каплуна и, наконецъ, каплуна въ поросенка. Поросенокъ, сжаренный до румянки на вертеле, даетъ блюдо, которое чрезъ смешение всехъ припасовъ по вкусу и запаху не имеетъ себе подобнаго. Величайшая драгоценность въ этомъ блюде – оливка, которая, находясь въ середине, напитывалась тончайшими соками окружавшихъ ея снадобий.
Иногда повара, для смеху или же на счастие, клали въ оливку не кусочекъ сочнаго анчоуса, а жемчужину. Тотъ, кто при трапезе находилъ въ блюде жемчужину, считался избраннымъ счастливцемъ...»
«Какъ ели встарину». Из книги очерков и рассказов «Старое житье», собранных М. И. Пыляевым, СПб, 1897
Вы когда-нибудь слышали о СЫРЕ ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА?!
СЫР ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА – любимое блюдо АГЛАИ СТАДНЮК!
Она удивляет нас ДНЕМ И НОЧЬЮ!
Она удивила нас тем, что оказалась ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ скандальнейшего романа великого бразильца ДИЕГО ДЕ ФАЛЬИ «ШЛЮХА ИЗ САН-СЕБАСТЬЯНА»!
«Вы не боитесь, что вас теперь будут называть шлюхой?» - спросили мы ЗВЕЗДУ.
«Не боюсь! Все королевы – шлюхи, а все шлюхи – королевы!» - гордо ответила нам БЕСПОДОБНАЯ АГЛАЯ.
Что же королева предпочитает на завтрак?
Конечно же, СЫР ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА!
А ЕЩЕ ЧТО? Ведь это так интересно твоей верной свите, о королева!
«Еще? О, ЕЩЕ… ЕЩЕ И ЕЩЕ… молоко моих любимых молочных ЖЕРЕБЦОВ…»
ТЫ самая великая ШЛЮХА мира, Аглая. ЕЩЕ!
1.
– Машер, ах, голубушка моя... Явилась!.. Машер, где ты была?!.. Ни Пети, ни тебя... Мы тут уж заволновались – не в больницу ли попала...
– Машенька, милашечка... Ну што ж ты, разве можно так стариков пугать...
Мария обнимала их обоих, старика Матвеева и Лиду. Ей казалось – она не должна их обнимать, потому что у нее руки грязные и вся она – грязная.
Лида стояла перед ней в ночной сорочке, дрожала, притискивала к высохшей груди костлявые руки. Старик Матвеев стоял в накинутом на плечи длинном халате; из-под халата торчали худые, бледно-желтые щиколотки. Когда-то он на коне, в сапогах со шпорами...
«Что ты все о коне да о коне его. Кости коня того давно уже в земле истлели. Да и сам Матвеев скоро в землю сойдет».
«Господи, зачем мы проходим сквозь время?»
– Ничего, - выдавила она, - ничего. Я же пришла. Ничего.
Обвела взглядом кладовку. Велосипедные спицы пробежались по глазам, замелькали.
Она ухватилась за Лиду, чтобы не упасть.
Старуха поддержала ее, прижала крепко, как мать прижала бы, к себе.
– Што, Машенька?.. Што?.. Плохо тебе?..
– Нет. Ничего. Где Петя? Он... приходил?
Старики переглянулись и затрясли головами оба, вместе.
– Нет, нет! Но... придет! Придет, конечно!.. Ты – не волнуйся только!..
– Ну вот, вам можно волноваться, а мне нельзя...
– Машер, а ты знаешь ли, душенька, что выборы – завтра?!..
– Што ты, старый, уже – сегодня...
– Ах, Лидусик, прости, да, уже – сегодня... Город как с ума сошел... Все кипит...
– Машечка, да ты что молчишь?.. Што стоишь-то, лапуся, раздевайся... Дай я сама тебя раздену...
За окнами, как белая каша, рисовая, разваристая, клокотал, кипел снег в черной кастрюле ледяной ночи.
Петра не было.
Старики сами приготовили ей поесть; Василий Гаврилович сам принес ей тарелку с едой в спаленку, а она лежала на кровати, не в силах была голову поднять.
Очень, очень болела голова.
«Лечение тоже денег стоит. А если – операция? Огромных денег. Нет, не думать. Не думать. Лучше – поесть».
– Спасибо, Василий Гаврилыч... Вкусно пахнет...
Старик Матвеев сел на край кровати и смотрел, как она ест.
А она ела – и не понимала, что она ест. Просто – глотала.
– Спасибо, спасибо...
– Ну-ну. - Матвеев взял пустую тарелку у нее из рук. Глядел, как она вытирает рот ладонью. - Не благодари. Это мы – тебя – должны – благодарить...
Зачем-то низко, церемонно поклонился ей.
Петра не было.
А ночь шла и проходила.
И уже уходила.
И было утро.
Утро, в которое народ должен быть выбрать свою новую власть.
Ему так казалось, что – должен был выбрать.
Зачем город кипел? Зачем – кричал? Зачем по улицам несся куда-то оголтелый молодняк, и человечье стадо опять, в который раз, верило, что оно само, без указки, может что-то важное, верное сделать? Зачем на стенах домов висели, яростно били в глаза красные, черные, синие, белые плакаты? И буквы, намалеванные прямо на грязных стенах, кричали в изверившиеся души: «ВСЕ – ЗА ТОГО!», «ВСЕ – ЗА ЭТОГО!»
Зачем...
Да ни за чем. Потому что так требовал человечий обычай.
Общество по-прежнему было неравным, хоть ему и врали, что все в нем равны. Общество кипело и кряхтело, бурлило и растекалось разваристой кашей, из ночной черной кастрюли, по белой ледяной плите раннего утра. Кремлевские башни кирпично, грязно краснели. Может быть, от стыда.
Люди верили в то, что это они, именно они выберут сейчас, сегодня свою власть; и они шли опускать в урны бумаги, на которых царапали ручкой свою власть и волю, - бедные, они и правда свято верили в это; и, опустив бумагу в черную щель, прорезанную в дурацком квадратном ящике, тут же, рядом, покупали в буфете дешевые пирожки и дешевые коржики, дешевые сосиски и дешевую водку; и, взяв маленьких детей на руки, а большеньких – крепко уцепив за руки, за сладкие от леденцов ладошки, выходили с покупками и детьми на улицу, и весело шли домой, думая: вот выбрали мы нашу власть! Ту, какую мы хотели! Мы, народ!
И дети жевали пирожные. И родители отхлебывали пиво из горла. И водку – на морозе – тоже из горла. И закусывали тут же, на морозе, сырыми сосисками.
А что, ребята?! Разве плохо? Водка есть, сосиски есть – и дешевые! - да разве ж это плохо?! Хорошо живем! Живе-о-о-ом!
А эти... Что – эти? Чем – недовольны?!
Молодые, дурачье, вот и недовольны. Вкалывали бы лучше! Работали бы! Сейчас все могут заработать деньги! И ха-ро-шие деньги! У кого на что мозгов хватает!
Знаешь, есть такая пословица: если ты такой умный, почему ты такой бедный, ха-га-га-а-а-а?!..
А потом был вечер.
И была ночь.
И перестал кипеть и волноваться глупый город. И затихло все.
И то, чего так ждали, кто жадно и жарко, кто – страшась, затаившись, - не произошло.
Никто никого не перестрелял. Никто не побил витрины богатых бутиков и окна богатых особняков. Никто не поджег сверкающие богатые машины, стоявшие под снегом, на морозе, без гаражей. Никто не высыпал на ночные улицы, вопя: «Долой! Ре-во-лю-ци-я-а-а-а-а!»
Никто – не восстал.
И была та же власть.
И был тот же мир.
И ничего, ничего не изменилось.
Весь день выборов Мария пролежала на кровати в спаленке. Даже буржуйку не топила.
Она не спала. И не бодрствовала. Она находилась между сном и явью, будто лежала не на кровати, а в воздухе между полом и потолком. Перед закрытыми глазами мелькала ее метла и лопата, потом они размножились, метлы и лопаты, замелькали чаще, утомительнее; она зажмурилась и прошептала: «Петя, Петя, ну где же ты, помоги мне, я не могу... разбить этот лед...»
Лом, она опять колола ломом лед, но уже невидимыми, невесомыми руками; будто видела, сквозь кожу рук, свои кости, скелет, а плоть была прозрачна, и крепкие еще кости плотно сжимали тяжелый чугун, и врезался в лед острый лом, будто в чье-то ребро, в подреберье. И брызги летели.
Далеко, в кладовке, радио хрипело что-то бодрое про выборы.
Сколько голосов насчитали... сколько... сколько...
Руки сами взмахивали, лом сам врезался в железный лед.
«Бей, бей, скелет... Бей, скелетик... Когда-то сам – под лед – ляжешь... Кто разобьет, разроет тебя?.. и когда...»
Мария встала с кровати.
За окнами уже было темно.
И в спаленке было темно.
Сидя на кровати, одна, она сказала себе ясно, громко:
– Пока я еще жива – надо что-то делать. Надо.
«По дороге к Амстердаму я жива, пока еще жива...» Глупая хриплая песенка, которую она однажды услышала из глотки радио. И запомнила, ты гляди, надо же. Девочка какая-то пела. Хрипло пела, будто пьяно... как все они...
«Они тоже хотят иногда быть пьяными, как и ты. Они – молодые. И хотят быть всегда молодыми. Они еще не знают, что это – не навечно».
Она двинула ногой, нащупывая ботинок – и нога ударилась обо что-то твердое под кроватью.
Мария встала на колени. Вытащила из-под кровати ящик.
Ящик битком, доверху, был набит газетами.
– О, газетки, - радостно, опять громко, как глухая, сказала Мария, - вот буржуечку и потопим... На растопку – хорошо...
В глаза ей ударил черной кровью жесткий, квадратными буквами, заголовок:
«ДРУГ НАРОДА-2»
Под сердцем стало тяжело, горячо. Она встала с колен. Озиралась. Увидела корзинку, в которой она с рынка картошку иной раз таскала. На дне корзинки лежало несколько картофелин; одна уже начинала прорастать. Мария вытряхнула картошку прямо на пол.
Потом присела на корточки – и вывалила из ящика все газеты в корзину.
О, чудно на улице, чудно! И ветер бьет в лицо. И тьма, и фонари. И трамваи гремят, как бубны, весело так! И откосы все в снегу, в ярком, сверкающем, алмазном снегу! Чисто, снегом все умыто, спасибо Тебе, Боже. Глядишь Ты из черного неба на наши дела людские! На пошлые, гадкие наши дела! И не вырвет Тебя! И не сблюешь Ты на нас, дураков, идиотов...
Грохочут трамваи. Горят умалишенные, слепые фонари. И ты идешь, как слепая, слепая от радости, по темному, алмазному городу своему. И – люди навстречу тебе! Кто – тощий, будто вобла, пополам можно перекусить; кто – жирный, катится колобком, довольный, воротник меховой блестит, руки в перстеньках золотых. Да ведь на рынке, на заречном рынке за гроши, у цыган, перстеньки-то купил! А врешь, что золотые!
Так все люди – друг другу – врут. Всегда!
И – друг другу – ложь за правду продают. Всегда!
А правды – что, нет?! Где правда?! Где?! Где?!
Иди, Мария. По дороге к Амстердаму ты жива, пока еще жива! Иди, неси тяжелую корзинку, как невесомое облако! Лети в ночи, как та девчонка с маленького Фединого холста. Тебе лишь кажется, что ты жива! Ты – нарисована. И тебя – сотрут однажды, счистят мастихином. И снегом, снегом белым, белилами цинковыми, замажут. Закрасят!
И не вспомнят, никто не вспомнит, что ты – была.
И тебе надо успеть. Надо – успеть.
Ты учила детей. Ты скребла лопатой тротуар ледяной. А теперь тебе нужно успеть отдать людям...
«...Петя! Ты не пришел домой. Может, ты уже не придешь. Сердце мое чует! Молчи, сердце. Ты глупости брешешь. Я не хочу тебя слушать. Все – жестоко, да! Снег – жесток! Мир – жесток! Чему я их учила?! Ты же помнишь, как этот, маменькин сынок, благонравный сынок тети-лошади, там, в богатом особняке, жестко говорил тебе, тебе в лицо: я не верю этой благости! Ну, тому, что вы мне говорите! Не распускайте тут сладкие сопли! Этот парень – он прекрасно знал, зачем убил двух старух! И эта девчонка – прекрасно знает, зачем читает ему Евангелие! Чтобы подкатиться к нему... охмурить! Он просто ей сразу понравился! И она – хочет лечь под него! Но не как проститутка, а как жена! И все. А вы тут мне накручиваете!.. А я тогда... что я тогда?.. я бормотала: Достоевский, Достоевский... А что такое будет это имя – Достоевский – для тех, кто придет завтра? Придет – после нас? Им не Достоевский нужен будет. Им – нужны – будут – дешевые – сосисочки! И дешевая – водочка! И дешевые – детективы в ларьке! И дешевые – гондоны! И дешевые...»
Снег бил ей в лицо, и она шла весело и гордо, тащила тяжелую корзинку на сгибе руки, и плетеная ручка в локоть врезалась, и Мария пела, напевала ледяными, вспухшими от ветра и снега губами:
– По дороге к Амстердаму я жива... пока еще жива... пока еще жива!..
Перед ней из белой тьмы всплыла дверь. Она уже уцепилась за ручку, не поняв еще, что это дверь церкви.
Она вошла, а в храме плыла, звенела литургия. Мария запустила руку в корзину. Вытащила газету. Сунула газету в руки светло глядящему прямо в распахнутые Царские врата, долговязому рябому мужчине в короткой, как у пацана, куртенке.
– Что вы? Зачем мне...
– Возьмите, - сказала Мария. - Читайте! Здесь вся правда о нас!
– Тише, - зашикали сзади, - служба ведь идет...
Она пошла по храму большим торжественным кругом, доставала газеты из корзинки, совала в руки, в лица, за пазухи молящимся. Хор на клиросе пел тоненько, фальшиво: девочки молоденькие, в белых платочках.
Мария и на клирос, к ногам девочек, тоже пару-тройку газет кинула.
– Пошла вон! Вон пошла!
Старуха в черном платке взяла Марию за плечи и толкнула к выходу.
Мария улыбнулась и тоже подала ей газету.
И еще одну.
– Отцу Максиму передайте.
И вышла на улицу, снова в снег и горькие алмазы его.
И снова шла, и улица стелилась грязной парчовой скатертью под ноги ее; и трамвай чуть не переехал ее, и она засмеялась своему испугу и своей неуклюжести, и слепоте своей, и беспечности; и прохожие дивились на радостное, счастливое, торжественное лицо ее.
Мария шла по улице, и раздавала газеты из корзины людям, прохожим, случайным. Она совала их людям в руки, и люди брали газеты у нее из рук – люди привыкли, что на улицах все время что-то в руки суют, рекламу, листовки, флаеры зазывные. Кто молча брал. Кто – с улыбкой. Кто – спасибо говорил. Кто – с отвращением – взяв, тут же в мусорную вазу выбрасывал. Кто – равнодушно. Кто – рвал газету, на ее глазах, нагло ей в лицо глядя.
А кто – тут же разворачивал, на морозе, и читал, под колючим, алмазным снегом стоя. Под фонарем, мигающим в метели.
Заледенелая брусчатка ползла, скользила под ногами. Мария шла с тяжелой корзиной легко, ноги сами несли ее.
Железные, черные ворота рынка еще были открыты. Последние торговцы расходились, расползались молча, устало. Еще стояли около пустых капустных бочек торговки в мокрых грязных фартуках. Еще закрывала на замок табачный киоск чернявая чеченка. И смахивала снег белым нарукавником, выпачканным коровьей кровью, ее знакомая торговка из мясных рядов.
– А, покупательша наша!.. Поздненько... Все уж продали...
Мария шагнула ближе, еще ближе.
Снег вился белыми бабочками перед ее лицом.
Она вытащила из корзины газеты. Сунула табачнице-чеченке. Сунула торговке капустой. Сунула ее знакомой, что мясом торговала.
– Держите, бабы, - жестко, весело сказала. - Это не буквами написано. Это – кровью. Здесь вся наша правда. Вся. Вся!
– Ой, не верю, - так же весело бросила ей в ответ баба, мерзнувшая около капустных бочек. Но газету взяла. - Ой, не верю я ничему! Особенно – писаному...
– Да ну!.. Конешно... Все врут газеты...
– А ты че, гражданочка, газетки теперь продаешь?.. А Фатимка покойная говорила – ты, вроде, учительница... А сколько мы тебе должны-то?.. За газетки?..
Мария уже выходила в чугунные ворота спящего рынка.
Торговки за ее спиной клекотали, как зимние птицы.
Около булочной сидел нищий старик. Мария бросила газету ему в шапку, лежащую на снегу.
Около роскошного модного магазина, с безголовыми манекенами в перламутровых витринах, сидели на снегу две старушки, а поодаль – на коврике – раскосая, смуглолицая мать в тюбетейке, в полосатом шелковом халате и в овечьей шубенке, накинутой на плечи; мальчонка, такой же косоглазый, чернявенький, приплясывал на морозе, растопыривал голые крошечные пальчики.
Мария бросила газеты старухам-побирушкам; матери с южным мальчишкой.
«Как это она на коврике... в халатике этом... в мороз наш... Зачем она пришла сюда из пустыни?.. Думает – выживет здесь?.. Я ей – деньги должна бы кинуть! А я ей – газету... Она по-русски и не читает, наверное...»
Боль сцепляла голову обручем. Боль вонзалась в виски длинными стальными иглами.
Снег заметал пустынную мать на коврике посреди богатой улицы, плечи Марии, корзину с газетами; усыпал круглыми алмазами ее голую, больную голову.
Ковыляя в ботинках по скользкой брусчатке, Мария дошла до трамвайных рельсов. Трамвай зазвенел, подкатывая к остановке. Двери раскрылись перед ней, будто приглашая.
И она поднялась по ступеням.
– Куда трамвай идет?
– На Московский вокзал, разве не видно? Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка...
К ней подошла кондукторша. Молча воззрилась на нее: плати, мол!
Мария достала из корзины газету и протянула ей.
– Заплатите! - прокричала, сквозь гам и толкотню, кондукторша.
Мария улыбнулась и покачала головой.
– А денег нет, не езди трамваем! Езди на такси! - зло проорала кондукторша прямо в лицо Марии.
Рядом захохотали:
– Ну что вы, ну пусть женщина едет... Видите, она же с корзинкой, она же из деревни, может, города не знает... Может, на обратный путь не хватает...
– Ну ради праздничка, ведь сегодня праздничек, царя нового мы выбрали, ну простите ей! Ну пусть едет... Прокатится...
– Выходи! Или плати!
Кондукторша толкнула Марию.
Двери закрылись, длинно шипя.
Мужская рука протянулась и небрежно подала кондукторше мелочь.
– Возьмите, я заплатил за нее...
«Он заплатил за меня, - холодея, подумала Мария, крепко прижимая к боку корзину. - Он заплатил за меня... купил меня. На одну поездку. Меня купили... на одну поездку в трамвае...»
– Спасибо вам, - сказала Мария и вынула газету из корзины. - Держите!
Мужчина, в кожаной кепке, дергая небритой щекой, взял газету у нее из рук, прочитал заголовок и насмешливо, громко сказал на весь трамвай:
– «Друг народа»? Какая чепуха! Чушь какая! Все не угомонятся никак, дураки! Кому это, блин, надо! Ре-во-лю-ци-о-нэ-э-эры! Жить нормально надо! Жить! А не революции устраивать!
– А мы нормально живем?! - злобно крикнула кондукторша, плотнее усаживаясь на своем законном месте, прижимая к широкому животу ободранную сумку с деньгами. - Нормально?! Вы так думаете?!
Трамвай гремел, трясся всем железным телом, гудел, с лязгом и звоном во тьме продвигаясь по сельдяным рельсам вперед и вперед, заметаемый снегом.
Скоро вокзал?
Да, скоро, скоро. И ты вылезешь там, у вокзала. Да только ты не сядешь в поезд и никуда не уедешь. Ты раздашь все газеты, сядешь на каменный пол у пустой корзины и заплачешь пусто, очумело. И все будут глядеть на тебя, пальцем показывать и смеяться, и никто не подойдет к тебе, не приголубит, не пожалеет, не погладит тебя по бедной твоей, больной голове.
– Московский вокза-а-ал! Конечная! Выходим, побыстрее выходим!
Конечная. Конец пути. Надо выходить. Ничего не поделаешь. Приехали.
Мария, с наполовину опустелой корзинкой, пробралась к выходу, спрыгнула со ступенек на засыпанный снегом, скользкий асфальт.
«Нет тут дворников, что ли, не отскребают ничего, снегу дают разгуляться...»
Пошла, побрела туда, куда и все шли, в толпе, вместе с толпой.
Далеко, потом все ближе, ближе, горел, пылал белый короб вокзала, и далеко по вокзальной площади разносился голос, объявлявший прибытие и отправление поездов. Мария не стала спускаться в подземный переход. Пошла поверху, прямо по площади, под морды автобусов, под рыла машин, и фары слепили, и шоферы гудели в истерике, а эта безумная баба шла, все шла и шла, не глядя на свою близкую смерть, неся на локте деревенскую, из старой лозы, корзину, и снег присыпал крупной солью газеты, - и так, под заполошный гул машин, Мария перешла площадь и вошла внутрь вокзала, в тепло, в дорожную сутолоку живого народа.
Задрала голову. Люстра огромная, дикая, как тонущий, мигающий всеми бортовыми огнями корабль, плыла, висела над ней. Золотая, медная, брызгающая во все стороны, на затылки и кепки, на ушанки и пилотки, кипящим машинным ли, подсолнечным маслом.
– Любовь моя, - сказала Мария люстре, - свет мой...
Светлые, дикие, хрустально-холодные глаза Степана мигнули, высверкнули ей, как из-за тюремной решетки, из огней люстры.
И нежные, тоже светлые, тоже прозрачные глаза Федора ясно раскрылись, обдали жаром, пьяным весельем, искрой горящей печной головни.
Народ толпился, бежал, толкался, гудел; обтекал стоящую с корзиной Марию, как остров. Народу дела до нее не было. Народ опаздывал, а может, к сроку поспевал. Купал друг друга в слезах. Глядел на часы в страхе. Хохотал, сжимая в крепких, детских объятьях встречи: наконец-то! Приехала... Приехал...
– Эй, а вы не знаете, почему там – омоновцы с овчарками стоят? Ну, там, у того входа?..
– Да, говорят, вокзал заминирован...
– Опять!.. Кому ж это все надо, взрывы эти!..
– Езжайте спокойно, никто ничего не взорвет, глупости какие, это просто ребята тюремный эшелон сопровождают, с овчарками...
– А видал, какие овчарки-то?.. Откормленные... Морды – круче, чем у волков...
– Они лучше нас с тобой едят, милая, так-то...
Все куда-то бежали, чего-то боялись, чему-то смеялись. Все ждали и не дожидались. Любили и не долюбливали. Все опаздывали – и, да, не успевали, и поезд уходил, мигнув на прощанье огнями последнего, сиротского вагона. И роскошный, специально для богатых, богатый, красивый, будто лаковый, поезд, где билеты в купе стоили ой-ой-ой, а билеты в СВ – ай-яй-яй, только вздыхай, простой люд, - подкатывал к перрону, и те, кто смог билеты на него взять, торжествуя, садились в ароматные и кружевные вагоны, зная: вот это все оплачено, и это все – у них не отнимут.
Как же вы уверены! Как же вы доподлинно знаете, что – не отнимут!
А если – отнимут?
Лети, поезд, лети по серебряным, как рыба чехонь, долгим, как жизнь, рельсам! Да не разбейся. Ты на волосок от крушенья! А пассажиры твои хохочут. Икру в ресторане едят! Рябчиков жареных! Коньяк пьют прекрасный, выдержанный, цвета янтарной смолы, не водку плохую...
Водка бывает или хорошей, или очень...
Мария выхватила из корзины газеты.
– Держите! - Совала в руки людям. - Вся правда! Вся...
– Врешь ты, тетка, все, - весело сказал пацанчик в черной обтерханной «косухе», катая в зубах окурок, - какая же в газетах – правда?
Кто-то уже читал. Кто-то швырял в мусорный ящик: реклама поганая! Кто-то совал в карман, грустнел лицом.
Кто-то тихо плакал, с газетой в руках, глядя на лицо Марии.
Корзинка пустая. Как быстро. Как быстро кончилось все.
Мария села на холодный, заплеванный вокзальный пол – так, как она и хотела, мечтала. Взяла корзину на руки, как ребенка, и качала, как ребенка, и плакала.
Вскинула голову. Наверху, над ее головой, горела, как немыслимая, вселенская печь, медная люстра.
Капала медными, ржавыми сосульками.
Сыпала на затылок Марии золотые, железные искры, кипящее желтое масло.
– Люстра, - сказала Мария, а слезы талым льдом заливали ей холодное лицо, - люстра, люблю тебя, люблю тебя, лю...
Рядом с ней раздался лай.
Она обернулась.
Пасть собаки была близко. Совсем рядом. Красная, зубастая; от языка шел легкий, невесомый пар. Кончик языка, розовый, влажный, заворачивался розовой лентой внутри тюремной сетки крепкого намордника. Овчарка лаяла взахлеб. Она лаяла на нее. На женщину, что сидела на гладком каменном полу вокзала и плакала, прижимая пустую корзину к пустой груди.
Собака бешено лаяла, рвала поводок. Человек в камуфляже пхнул Марию в спину дубинкой.
– Что расселась! Вставай, грязь! Дрянь!
Дубинка наотмашь, больно, ударила по спине.
И Мария, бросив пустую корзину, встала.
И тут она увидела ее.
Эту красивую, холеную, рослую девку.
Девка шла, и полы ее богатой, из искристого меха неведомого Марии, серо-голубого зверька, длиннющей шубы развевались, отпахиваясь, отлетая от широко шагавших, перламутрово-круглых, голых коленей, от гармошкой жатых, царевниных сапожек из тончайшей, наверное, телячьей кожи.
Девка шла, а за девкой шли два могутных, плечистых дядьки – ее телохранители, и несли в руках, как легкие смешные игрушки, два огромных чемодана, а за дядьками бежала толпичка молодых людей, - нет, и не слишком молодых, люди в возрасте тут тоже мелькали, - и у всех был неприкрытый восторг в умильных, подобострастных глазах, и все в руках что-то такое держали: кто книжку, кто журнальчик, кто цветочки, а кто-то даже крошечную, карликовую собачку тащил, с бантиком на шее, и собачка одышливо скалилась, будто улыбалась.
Девка шагала широко, нахально, гневно, почти по-мужски. Она была люто рассержена и не скрывала этого. Тяжело дышала. Мария рассмотрела – ее губа была покрыта бисеринками пота, такого мелкого, росного, жемчужного.
И на шее у нее тоже блестели жемчуга. Переливались. Красивая, богатая нитка, с крупными, серебряно-голубыми шарами.
Внезапно остановилась. Так же дышала тяжело. Раздувала ноздри.
Обернулась на телохранителей.
Что-то яростное процедила им.
Дядьки встали, опустили чемоданы на пол и подняли громадные руки, преграждая путь толпичке жадно-восторженных поклонников.
– Стойте! Аглая не хочет, чтобы вы сопровождали ее до вагона! Аглая хочет спокойно сесть в поезд! Без вас! Она хочет побыть одна!
Девка развернулась к поклонникам задом. Ее шуба, казалось, тоже тяжело дышит, гневается вместе с ней.
Она презрительно повернула голову к бодигарду. И Мария поразилась холености ее тонкой, фарфорово-розовой кожи, жемчужному, небесному блеску зубов, неземной чистоты лбу и подбородку.
«Глаза, какие у нее глаза... Сейчас она ко мне голову повернет...»
Девка повернулась и, сверху вниз, с высоты своего роста и высоченных каблуков, как на козявку, поглядела на Марию.
И тут раздался легкий, еле слышный, в вокзальном шуме и гуле, звяк.
Девка что-то выронила, что-то упало с нее вниз, скользнув, как рыбка по льду, по пушистой поле серебристой норковой шубы, и легонько брякнуло о каменные плиты.
– Вы что-то уронили! - крикнула Мария.
И наклонилась. И пошарила рукой у ног своих.
И подняла – высоко, чтобы девка видела и ее охранники видели – жемчужное ожерелье.
– Ой, блядь, - сказала девка, оттопырив губу, - ой, твою ж мать! Это ж мои жемчуга! Куда вы смотрите?!
Пощечины – одному, другому – посыпались быстро, мгновенно.
– Я бы сейчас такие жемчуга потеряла! Японские! Им цены нет! Это мне – Лялик купил! Сам Лялик Семисалов! Они стоят, блин, десять лимонов! Он их на Кристи купил! Вексельберг – не купил, а Лялик – купил! Слепые кроты!
Девка дернула у Марии из рук ожерелье.
Нитка порвалась.
Жемчужины, уже бесслышно, падая, как белый дождь, растекаясь, как ртуть, посыпались на пол вокзала.
– А-а-а-а! - завизжала девка. - А-а-а-а! Она! Она! - Указывала пальцем на Марию. - Она у меня! Их! Украла!
Кровь бросилась Марии в лицо.
Около них уже стояла толпа.
Овчарка все лаяла, лаяла надсадно.
– Я не крала, - сказала Мария тихо, - я не...
– Вот она! Украла! - визжала девка. - Хватайте ее! Милицию! Вызывайте!
Один дядька ползал по полу, хватал убегающие жемчужины. Другой уже схватил Марию, крепко держал под локоть.
– Если вякнешь, - дыхнул ей в нос смесью перегара и мятной жвачки, - если шевельнешься только...
– Такие вот бомжихи и крадут все, да-а-а, - раздался тихий, вкрадчивый голосок из темного, медного, чумного кольца, обнимавшего их, - такие вот и крадут... и продают потом... в ломбард закладывают... и денежки большие, большие выручают, да-а-а-а... Ну, надо же и бомжам, мать их ети, на что-то жить...
– Она не крала! - крикнул из живого кольца девичий, отчаянный голосишко. - Она – вернуть хотела! Я – видела!
– Ни хуя, - отчетливо, нагло выцедила девка, глядя в личико робкой защитницы. - Я все сама видела! Не надо мне ля-ля!
– Аглая Сергеевна, - телохранитель, с горстью жемчужин, что он успел собрать, поймать под ногами зверино-любопытной толпы, расстреливал ее в упор железными глазами, - ваш поезд уйдет...
– Ваш! - крикнула девка, и светло-серые, в цвет ее жемчуга, глаза на смугло-фарфорофом, гладком лице загорелись ненавистью. Ненавистью богатой хозяйки – к тупому, нищему слуге. - Ваш поезд уйдет! А мой – мой поезд! - не уйдет! - никогда! Потому что я его! Весь! Куплю! Со всеми! Его! Потрохами! Со всеми этими, - она махнула вокруг себя рукой в белой как снег, отороченной серым мехом перчатке, - вшивыми людишками вместе!
Обернулась к Марии. Резные, хищные ноздри ее раздувались.
Лаково зубы блестели.
Под перламутровыми, резными, ювелирными, драгоценными губами.
Овчарка лаяла не переставая.
И Мария почувствовала, как ей грудь, шею жжет, прожигает девкин пристальный взгляд.
Девка глядела не в глаза ей! А – на шею ее.
И бросила надменно, через выпяченную, чуть оттянутую книзу перламутровую губу:
– Снимай свой хрусталь, тетка. Мне – он – понравился.
Мария, не понимая, глядела на красавицу девку, богачку.
Но уже положила, защищая жизнь свою, руку себе на грудь.
Низку Федькину, хрустальную, к шее крепко прижала.
– Как это – снимай?.. Почему...
– Баш на баш, - сказала девка, катая по лицу, по шее Марии ледяные жемчужины наглых, чуть выпученных глаз. - Ты у меня японский жемчуг сперла, да еще порвала, рассыпала весь. А я у тебя – твое ожерелье забираю. Взамен. Поняла?!
Мария стояла неподвижно. Пальцы ее перебирали теплые Федины хрусталинки.
– Ты же не хочешь в суд, бомжиха, да?! Да что там суд! - Девка победно оглянулась вокруг. - Какой суд! Я сама тебе буду суд! Мне только моим ребятишкам мигнуть...
Бодигарды стояли молча, избычившись.
Мария задрожала.
Девка взяла ее за запястье и крепко, жестоко рванула ее руку вниз. Оторвала ее ладонь от шеи.
«Ну я же не буду с ней бороться... Она же – сильнее... моложе... крепкая девка... сытая... вон какая ядреная... да и глупо – бороться... глупо...»
Девкины пальцы, в лайковых перчатках, уже шарили по Марииной горячей коже, уже расстегивали застежку, уже снимали с ее шеи хрустальную низку.
Мария смотрела, как девка, нагло смеясь всеми голубыми, сверкающими зубами, надевает себе на шею ее, Марии, радость, счастье.
– Отдайте, - прошептала Мария хрипло, бессильно, - отдайте...
– Пошли! Хватит! Все!
Девка круто повернулась, и пола шубы хлестнула Марию нежным, небесно-серым мехом по беспомощно дрожащей руке.
Она пошла вперед, к выходу на платформу, так же широко, по-мужски, шагая, и светлые ее волосы, заколотые высоко на затылке, золотом светились в стеклах и зеркалах вокзального зала, и могучие дядьки, подхватив чемоданы, побежали вслед за ней. И шуба ее развевалась. И губа оттопыривалась. И вокзальные часы показывали время ее уходящего поезда. И медная люстра пылала всеми медными сотами, и ее золотые пчелы жужжали над равнодушной толпой.
И Мария стояла недвижно, и корзина валялась у ее ног.
Шея ее была голая и пустая.
Овчарка лаяла хрипло, надрывно.
И вот замолчала.
И такими же широкими шагами, промеряя вокзальный каменный, гладкий, ледяной пол, шли к ней, к Марии, два человека в милицейской форме.
– Пошла!
Толкнули в спину.
И Мария пошла вместе с ними.
Вышли на площадь. Марию подвели к машине.
Тупо глядела Мария на милицейскую машину, с синей полосой вдоль светлого бока.
– Что стоишь! Садись! Бродяжка! Такой красивый вокзал только портите, бляди!
Ее снова толкнули в спину.
Она закарабкалась в раскрытые задние двери. Влезла. Села.
Молоденький милиционер вскинул свежее, гладко выбритое, румяное от мороза лицо. Прищурясь, оглядел Марию.
– Ну что? Сидишь? Хорошо сидишь. А насидишься еще лучше. - Сплюнул на снег. - Закрываю, Сашка! Давай, заводи, а то масло на морозе застыло уже.
Парень закрыл, с лязгом, железные дверцы.
Марию обняла темнота.
И кожа пахла, так пахла чернотой, темнотой.
– Не бейте меня! Пожалуйста! Не бейте!.. Не бей...
– На тебе! На! На!
– Я ничего не сде... не бейте!.. По-жа...
– На еще! На! Получила?! Воровка! Бомжи проклятые! Всю страну испоганили! Работать не хотите?! Да?! По вокзалам слоняться?! По сумкам у людей шарить?! Н-на!
– Не бейте же меня! Я ничего...
Все кружилось, плясало.
На губах было солено, мокро, горько.
На щеках – тоже.
Она не чувствовала груди, живота. Скосила глаза; поглядела вниз и вбок. На груди, на свитере, расплывалось странное темное пятно.
Пятно расползалось по овечьей шерсти свитера, по сухим цветам и травам, по засохшим пчелам и паукам, по высохшей, связанной костяным крючком, жизни ее.
Она полетела куда-то, стремительно, бесповоротно, когда поняла: это – кровь.
Голос услышала над собой, молодой голос:
– Хватит с нее, Сашка. Остановись. Она свое получила.
Хриплое дыхание донеслось до нее. Парень, что бил ее, устал, и она тоже это поняла.
– А мы – свое?!
– Ты... серьезно?.. Бомжиха... с вокзала... старая...
– Разуй глаза. Она не старая. Потрепанная только, сучка.
– Хочешь – валяй, с гондоном только, чтоб не заболеть.
– Ну это понятно. А у тебя есть?
– Что – есть?
– Гондон, дурак.
– Я не дурак. Есть. На.
– Подсобку Витькину открой мне. И помоги ее дотащить.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Художник никогда не писал портреты. Но на одном из слайдов, которые удалось спасти в пострадавшей от пожара мастерской Михайлова, сохранилось изображение женщины. Судя по всему, это набросок реально существовавшей натуры. Женщина сидит в старом кресле, около горящей печи. Печная дверца открыта, и языки огня освещают длинную черную юбку натурщицы, ее бессильно брошенные на колени руки, ее щеку и шею. Глаза женщины – в глубокой темной тени, они неразличимы. Щека, озаренная огнем, розовеет. Пальцы, кажется, шевелятся, так живо, легкими мазками, они написаны.
На голой, золотисто-теплой шее неизвестной сверкают, освещенные оранжевым печным пламенем, бусы из мелкого прозрачного камня. Это не портрет, а скорее, беглый этюд к портрету, так и не сделанному никогда».
ИНТЕРМЕДИЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ ОБЛОЖКА. МОДНЫЙ ЖУРНАЛ
Золотые кольца волос.
Золотые кольца вьются, вьются.
Золотые кольца вьются, ложатся, струятся, падают на белые обнаженные плечи.
Плечи белые, как драгоценный алебастр.
На белом алебастре плеч – острые огни, играющие грани.
Красивое лицо глядит с обложки вполоборота. Глядит из-за плеча.
Шея безупречно гладкая и гибкая.
Шею охватывает нитка остро, цветно играющих в ярком свете софитов, мелких бус.
Бриллианты? Аквамарины? Александриты?
Перламутровые губы легко и загадочно улыбаются.
Улыбка эта говорит: все на свете легко и празднично, все блистает и искрится, все – праздник и свет!
Это солнечный хрусталь.
Это солнечный горный хрусталь, изящно ограненный, обнимает красивейшую в мире шею красивейшей девушки.
Мы все знаем ее имя.
Теперь в моде будут не бриллианты от Gucci. Не жемчуг от Kenzo. Не золото от Armani.
Теперь в моде будет мелкий, как бисер, простой хрусталь – такой же чистый, как светлые, счастливые, сияющие глаза Той, что его носит!
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ ИЗ-ПОД НОЖА ЗВЕЗДЫ
СЕКС И НЕМНОГО ПЕРЧИКА...
ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДВЕ ПОЗЫ ИНГРИД ОВЦЫНОЙ
ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ С ЭЛЕН АРСАН!
СОФИ ДИМИТРЕСКУ – НОВАЯ ДЖОКОНДА
ПРИМАДОННА ЗАЧАЛА РЕБЕНКА В ПРОБИРКЕ
БЕРЦЫ, ПРОСТРЕЛЕННЫЕ НАВЫЛЕТ
БУДЕТ ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ?
МАРИЯ ВИТОРЕС И ИОАНН: САМЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ
КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
ПЕДОФИЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ
ПОЭТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВ ПРЕДСКАЗАЛ АТОМНЫЙ ВЗРЫВ!
ЗЕМЛЯ ТАНЦУЕТ АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
ЧЕРНЫЙ СНЕГ. ПОСЛЕДНИЙ КРИК
Я перестал верить.
Я перестал верить во все это.
Во все это дело.
Революция? Какая? Для чего? Кому? Во имя кого? Во имя чего?
А не дерьмо ли все это?
Вот мы возьмем власть. Ну, победим – и возьмем. Как телку берут. Бабу берут.
Ну, выебем ее, власть.
Ну и дальше что?
Сами будем владычить, да?
Судя по всему – да.
Да, да, да. Да?!
А как?! Как мы будем это делать?!
И, главное: кто?
Кто из наших будет – сможет – это – сделать?!
Ну, удержать власть.
И потом – править!
Все переделать! Все – на хер изменить! Перевернуть на хер!
Кто это сможет?! Кто?!
Я, честно, не знаю.
Никакой не Еретик.
И никакой не Степан.
У меня такое чувство – что мы сможем только все порушить к едрене матери.
И все. И ничего не возвести.
Потому что мы не знаем, как возводить. И что возводить.
Что строить – не знаем.
Мы не строители.
Хотя Степан и кричит: у нас есть программа, у нас есть программа!
Какая, на хуй, программа?! Этот набор барабанных лозунгов, похожий на все эти остальные наборы?! Свобода – равенство – братство – справедливость - образование всем – медицина всем – земля всем – работа всем – деньги, блядь, всем?!
Деньги. Самое главное – деньги всем.
А откуда мы деньги всем – возьмем?! Банки раскурочим?!
На улицах – из мешков – доллары-рубли – повытрясем?!
И завопим: налетай, народ, расхватывай, кто сумел, тот и съел!
А сожрете – не взыщите: больше у нас нет. Все! И нас нет, и банков нет.
И денег тоже нет.
И страны, на хер, тоже нет. И ничего – нет!
А что, страна – это что, тоже деньги?!
Да. Страна – это деньги. Это не люди, нет, не-е-е-ет! Это – только деньги. Это ее деньги – в банках, на счетах и в кубышках.
Это наши деньги.
Это то, за что мы все воюем. До крови. До погибели.
Это то, на что все продается и покупается. Ярмарка, еп твою мать!
Вечный рынок. Торг сучий.
А революция – что такое революция?
Может, это тоже торг?! Тоже – рынок?!
У кого дороже лозунги. У кого больше денег на партийных счетах. Кто больше оружия купил! Кто – больше – народа – в партию - завербовал! Кто – круче – политиков – подкупил...
У, бля-а-а-адь... Это и есть революция?!
Как хочется заорать: не верю!
Но ведь это, черт, так похоже на правду!
Ну, не бойся ты. Ну, давай, скажи себе: это правда. Это правда.
ЭТО ПРАВДА.
Это и есть правда. Наша последняя правда. Моя последняя правда.
И никто из наших, никто, никто не хочет ее вслух – себе – сказать.
Потому что человек должен чем-то опьяняться.
Водкой. Наркотой. Куревом.
Лозунгами. Партией. Революцией.
«Общества без революций не бывает!» - кричал нам Степан.
Ну, не бывает. Ну, хорошо, не бывает!
Но себя-то, и, блядь, друг друга-то зачем обманывать?!
Чтобы собой – гордиться?
Чтобы на себя гордо в зеркало смотреть: епт, гляди-ка, какой я революционер!
Да, мы живем плохо.
Народ наш – живет – плохо.
А власти врут, что – хорошо.
Немногие живут хорошо. И все это прекрасно знают.
Но разве можно сделать всем хорошую жизнь – революцией?
Революция – это кровь. Это, в общем-то, смерть.
Может, мы, пацаны, так хуево живем, что не жизни, а только смерти уже хотим?!
Нет. Вранье! Мы хотим жить.
Но – не так, как наши родители живут.
И не так, как мы сами сейчас живем!
Мы живем как скоты, это ясно.
Только шлюхи, петухи и пидоры живут хорошо.
А мы – скоты.
И мы хотим быть людьми.
И, если нельзя жить людьми, так дайте хоть помереть людьми.
Вот за этим, наверное, так я думаю, эта революция и нужна.
А больше ни за чем таким.
Черный дождь всю осень шел.
А теперь идет черный снег.
Черный снег, черт! Да он же белый! Что я, совсем уже...
Нет, я не пьяный, нет...
Мать только жалко.