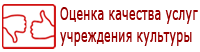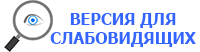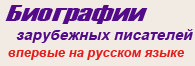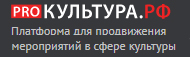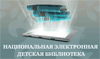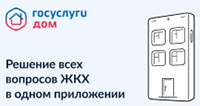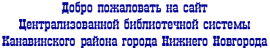
8
ГЛАВА ВОСЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
«...а кто привезетъ къ монастырю на торгъ орехи, яблоки, макъ, лукъ, чеснокъ, хмель, золу, деготь и тотъ товаръ ценити, а оценя, имати рублевая пошлина, кто учнетъ продавати лубья или сани или колеса или на возахъ сено и дрова, и лучину, и у техъ людей имати зъ десяти лубовъ лубъ, а съ саней и съ колесъ и съ возу сена по денге, а съ воза дровъ по плахе, а со ста поленъ лучины по полену...»
Перечень денежных пошлин и натуральных поборов ярмарки Макарьевского Желтоводского монастыря, начало XVII века от Рождества Христова
СЕНСАЦИЯ! СЕНСАЦИЯ!
АГЛАЯ СТАДНЮК ВЫХОДИТ ЗАМУЖ!
СЧАСТЛИВЫЙ ИЗБРАННИК ЗВЕЗДЫ – ИЗВЕСТНЕЙШИЙ МОДЕЛЬЕР ПЛАНЕТЫ ДЖЕРЕМИ СКОТТ!
К СВАДЬБЕ ЖЕНИХ СДЕЛАЛ НЕВЕСТЕ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ СЕРЕБРЯНЫХ ПЛАСТИН, УКРАШЕННОЕ НАСТОЯЩИМИ ГИГАНТСКИМИ ТРОПИЧЕСКИМИ БАБОЧКАМИ, А ТАКЖЕ ОДНИМ ИЗ ЗНАМЕНИТЕЙШИХ БРИЛЛИАНТОВ МИРА «ROXOLANA»!
ОН ПОДАРИЛ ЕЙ ПОИСТИНЕ КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА!
ОН ПОДАРИЛ ЕЙ ЛУННЫЙ КРАТЕР ТИХО СТОИМОСТЬЮ В ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
«Как вы, Аглая, чувствуете себя в качестве невесты?»
«ГРАНДИОЗНО!»
«Кто приглашен на свадьбу?»
«ВСЕ ЗВЕЗДЫ!»
«А вы что подарили любимому жениху?»
«Я ПОДАРИЛА ЕМУ СЕБЯ!»
1.
– Ну, привет, Степан.
– Привет.
Обменялись рукопожатием. Степан оглядел унылые стены.
Он и скуластый крепкий широкоплечий мужчина, что пожал ему руку, они оба были в пустой комнате, в здании тюрьмы, где он сидел.
Они давно не виделись.
И вот увиделись.
И Степан прекрасно знал, что он сейчас ему скажет.
– Ты должен жить, - тихо сказал сидящий напротив. - Пусть погибают щенки. Тебе нельзя с ними. Это верная смерть. Ты должен жить. Вожди должны всегда жить.
– А чернь – погибать, да? - тихо спросил Степан.
– Чернь – это значит народ, так?
– Народ... - усмехнулся Степан. - Я бы на твоем месте не бросался так просто этим словом.
– Я и не бросаюсь. Я просто хочу сказать тебе: мы еще свое возьмем.
– Свое возьмем, - эхом отозвался Степан.
Мужчина покопался за пазухой. Протянул Степану сверток.
– Бери. Здесь паспорт, виза, билет на самолет. В Нью-Йорк. Америка – не самое плохое место, чтобы там переждать смутное время.
– А у нас сейчас – смутное время?
Степан не протягивал руку. Не брал то, что ему протянули.
– Не цепляйся к словам. Прямо отсюда полетишь. Из Стригино. «Люфтганзой». Не надо ехать в Москву, в Шереметьево. Пересадка во Франкфурте. Разберешься.
– Разберусь. - Степан по-прежнему не протягивал руку. - А деньги?
– Как же я тебя, да без денег в Америку отправлю? Ты шутишь, братец.
– Я не шучу. Просто – спрашиваю.
– Здесь двадцать пять тысяч долларов. Надеюсь, на пару месяцев тебе хватит. Хорошо потусуешься.
Холодные, ледяные, хрустальные глаза Степана воткнулись в лицо мужчины, как два лезвия.
– Хорошо. Потусуюсь. Давай.
Он наконец протянул руку.
Сунул сверток в нагрудный карман.
– Рубаха уже грязная, извини, - похлопал себя по воротнику. - Не мылся тут сто лет... Воняю, как бомж.
– Сейчас выйдем отсюда, я тебя к себе увезу, там помоешься как следут... выпьем.
– Как мы отсюда выйдем? Из тюрьмы?
Глаза Степана разрезали бесстрастное лицо мужчины.
– Очень просто. Ногами. Я купил всех твоих тюремщиков. И судей твоих. И адвокатов твоих. И прокуроров. И губернатора твоего. Захочу – и президента твоего нового куплю. Все у меня – вот где!
Он показал Степану крепко сжатый кулак.
– И я тоже? - холодно спросил Степан.
– И ты тоже, Татарин, - так же внезапно холодно, ледяно отчеканил мужчина. - Не забывай о том, что ты, дорогой мой, - мой проект.
– Твой?
Лицо Степана было неподвижно, только углы губ дергались, будто бы он нюхал гадость.
– Кремлевский, если тебе так больше нравится. Только ведь я – не Кремль. Я – это я. Просто я. И ты об этом знаешь лучше всех.
Степан смотрел прямо на него. Старался смотреть прямо.
– Тогда я не пойму одного. Зачем - я - тебе?
Мужчина быстро, крепко и цепко охватил веселыми, хищными глазами лицо Степана, его плечи, руки.
– Потому что ты сильный. И любишь власть. А я люблю тебя... как сына. Не красней!
– Брось. Не ври. Не извивайся. Я не верю этому: люблю, любовь. - Степан сплюнул, будто сдувал табак с губы. - Это все – бабам говори. В напарники берешь?
– А ты – сейчас только догадался?
– Хороши мы с тобой будем, если...
Оборвал. Не договорил.
– Страна у нас тоже ничего. Хороша. Но плохо лежит. Обнищала бабенка. Колготки дырявые. Эта шлюшка побежит за любым, кто ей хорошую денежку кинет, а потом кулак покажет.
– Ой ли? Ты не знаешь наш народ.
– А ты – знаешь?
– Я – знаю.
– И я тоже знаю. Мы оба знаем.
– И какой он, наш народ?
Теперь задергались углы губ мужчины. Поползли вверх.
– Бедный.
Он уже открыто, широко, зубасто улыбался.
Встал со стула. Встал и Степан.
Мужчина насмешливо спросил:
– Я забыл, Степушка, ты какую водку любишь больше всего?
– Мне по хрену. Лишь бы закуска была нормальная.
– Закуска будет нормальная.
2.
– Эй! Пацаны!.. Что вы делаете... ну что...
Ему в рот всунули что-то вонючее, мягкое.
Голоса над ним метались, вспыхивали, как фонари.
– А это – тот?!
– Тот, тот, давай кончай его...
– Ты, слышь, ты – Петр Строганов, да?!
Он ответил одними круглыми, выкаченными из орбит глазами.
Он глядел в лицо своей смерти.
Отвратительное было у нее лицо. Черная рожа. Ледяная.
– Слышь, давай живей, не тяни кота за хвост, седня праздник, между прочим, меня моя телка в гости пригласила...
– А этого тебе кто заказал?..
– Да эти... кто ж еще...
Кто – он уже не услышал.
3.
Старик Матвеев варил на буржуйке суп из сушеных грибов, когда вдруг за окном, в затянутое узорами мороза стекло, кто-то тихо, как зверек, заскребся.
Старик Матвеев согнул скрипящие, больные колени, с трудом пригнулся перед окном, прислонил морщинистое лицо к ледяным узорам – и смотрел, смотрел, щурился, силился разглядеть, кто там, через ледяные хвощи, алмазные хризантемы.
– Бог ты мой! - Он чуть не выронил из руки ополовник. - Пушкин!
Дрожа, побрел, шаркая тапками, к двери.
– Лида, Пушкин...
Старуха Лида, семеня, так же шумно шаркая, побрела, потянулась за ним, как старая волчица за старым волком.
Они оба подошли к двери.
Старик Матвеев открыл дверь. Высунулся в ночь, в снег.
Черные пожарищные доски торчали, как сломанные ребра, из сгоревших стен того, что недавно было их домом.
Так и живем на пепелище. так и будем жить. Все равно скоро умирать.
– Эй! Пушкин!..
Снега вокруг молчали. Дома и сараи, деревья и гаражи молчали.
– Эй, Пушкин! Где ты...
Далеко, за звездами, взлаяла собака.
Лида высовывалась из-за плеча старика Матвеева. Вздыхала. Вдыхала морозный, колючий воздух.
– Простынешь, Васенька... Давай домой... Почудилось тебе...
– Нет, не почудилось! - Матвеев упрямо вздернул голову. - Я что, слепой, что ли! Говорю тебе: Пушкин настоящий, собственной персоной!
Они оба стали тихо звать в темноту:
– Пу-шкин!.. Пу-шкин!..
Что-то чернело в притоптанном снегу. Старик Матвеев, осторожно ступая тапочками по хрусткому алмазному снегу, подошел.
Маленький черный человечек в черном потертом ватнике лежал на искристом снегу, скрючившись. Он лежал так, как лежит ребенок в животе у матери. На черном, будто обгорелом, будто деревянном, личике играла, шевелилась червячком кривая, косая, мерзлая улыбка. К груди человечек скрюченными ручонками прижимал, как ребенка, пустую бутылку из-под водки.
– Эй... Пушкин!.. - Старик Матвеев наклонился. Затряс человечка за плечо. - Вставай! Замерзнешь...
– Тихо, Васенька, не буди его, - сказала старуха Лида. Губы ее тряслись. - Тихо... уже не буди, слышишь...
4.
Звезды прожигали черный широкий платок ночи, и ночь была вся дырявая, ветхая, прожженная насквозь, такая старая и бедная старуха-ночь.
На задворках, в ночи, около старых сараев, стоял Федор Михайлов, пьяный в дымину, и сжигал на костре все свои холсты.
Он стоял на задах, около зимних дряхлых сараев, и бросал в огонь одну картину за другой. Смеялся беззубо, когда видел, как пламя обнимает им самим закрашенный холст. Под звездным безумным небом. В безумный мороз.
В ночи, что бывает один раз в жизни.
А потом, после ночи такой, только смерть бывает.
Картины горели. Потрескивал холст. Он исправно, старательно горел и с лица и с изнанки.
Горела вся его жизнь; вся его душа.
– Гори, гори, ясно... - Безумная беззубая улыбка взошла на его сморщенное, гладко выбритое лицо. Он побрился к празднику: ведь сегодня такой праздник, такой... - Чтобы... не погасло...
Трещали, охваченные огнем, подрамники. Чернели, обгорали рамы. Не так много у него было багета – не на что было багет купить; но какие-то, особо любимые, холсты он все в долгой жизни в рамы одевал. Вот эту... Божью Мать... в тонкую, черную с золотом, раму...
Напротив костра стоял, выгнув тощую спину, тоскливо, хрипло, будто клянчил милостыню пьяный бродяга, мяукал кот.
– Гори, гори, моя звезда!..
Он запрокинул голову, поднял над лицом бутылку, зажатую в кулаке, и крепко, жадно отхлебнул из горла.
– Ах-х-х-х, водочка... Ты моя отрадочка... Звез-з-зда любви приве-е-етная!..
Осталось совсем немного. Две картинки... или три?..
Как хорошо жечь жизнь. Как хорошо прощаться. Облегчаться.
Легко и хорошо, и ничего больше нет. Ничего.
Свободен. Легкий, как ангел! И свободен.
Как это он раньше не догадался?
– Ты у м-м-меня... одна заве-е-етная... др-р-р-ругой не будет... ни-ког-да...
Оглянулся. Взял в руки холст с женщиной, что держала в руках шар чистого света. Бережно, осторожно, как в колыбель, положил в огонь.
Обжег себе руки; запахло паленым.
– Шкуру свою сжег... А-а-а-ах, все мы звери... Всех изжарят... и сожрут... и только косточки захрустят...
Еще глоток из бутылки сделал. Задвигался кадык.
По лицу его текли слезы, но он улыбался, светил в ночные, великие снега беззубыми деснами.
И тут из-за сарая, издалека, послышался хруст.
Скрип снега.
Хрип-хрип. Хрусь-хрусь. Хрр... хрр...
Хрясь-хрясь.
Ближе хруст морковки. Ближе.
Федор качнулся и медленно, держа бутылку в поднятой над сугробами руке, повернулся.
К нему по двору, увязая, утопая в снегу, шла Мария.
Он не узнал ее. Он подумал: вот идет ко мне бродяжка, какая побитая, чуть ли не босая, вся расхристанная. Угостить ее водкой, что ли?
Она подходила ближе. Все ближе.
Хрусь... хрусь...
Увидела огонь. Костер. Увидела горящие холсты.
И – бросилась, падая, протягивая вперед руки, опять вставая, катясь в снегу, окуная в снег орущее лицо, ползя, вперед, к костру, скорей, успеть, - и доползла, и выхватила из огня последний холст, что Федор в огонь положил. Холст еще не успел сгореть. Женщина, плача, стоя на коленях в снегу, обнимала, целовала холст, как живого человека.
Бродяжка подняла к Федору перемазанное сажей лицо.
– Машка... Рваная рубашка... - прохрипел Федор изумленно.
– Фединька, что ты делаешь...
Федор поднял Марию из снега, ухватив под мышки.
– Хочешь водки?
Он протянул ей бутылку. Подсунул к лицу.
– Глотни!
Мария сделала глоток, и ее вырвало прямо на снег.
– Эх, мать! - крикнул Федор и размазал по лицу соленую жижу. - Мать-перемать! Ты беременная у меня, что ли?! От меня, что ли?! Или от кого другого?! От Святого Духа, старушка моя?! А-а-а-а?!..
Захохотал громко, хрипло.
Допил, что оставалось в бутылке. Бросил бутылку в костер.
Крепко, крепко обнял Марию.
Так стояли.
Плакали.
Покрывали нежными, солеными поцелуями холодные лица друг друга.
– Что ревешь-то, коровушка моя... Живой огонь – правда, это же лучше, чем свечи?.. Свечи надо покупать... а огонь – бесплатный... х-ха-а-а... жги хоть всю ночь... только дров подбрасывай... Вот – бревно!.. - Он постучал себя по груди. - Такое крепкое, сухое, старое бревно... Машка, а?.. Хочешь – себя в костер брошу... сожгу?.. Зато ты согреешься... ручки твои согреются, ножки...
Мария поднимала к Федору, как к солнцу, мокрое лицо.
– Федя... Фе-дя-а-а-а!..
– Ма-шень-ка... С Новым годом тебя. Слышишь, куранты бьют?.. А мы – уже пьяные... мы – молодцы...
Он поцеловал ее в шею.
Замер.
Мариина шея была голая и пустая. Голая… и пустая.
– Машуль... А где – хрустали мои?.. А?..
Она, плача, провела пальцем по его гладкой щеке.
Он глядел в ее лицо. Трогал пальцами свежие царапины. Кровоподтеки. Синяки.
Ее украшения, ее новые украшения. Дареные. Почетные. Драгоценные. Доставшиеся... даром...
Нет, ее не били. Нет. Ее нельзя – бить. Ее никто... не смеет...
Ее...
– Я их… подарила.
– Кому?.. – Слезы хрусталями сползали, медленно, тихо, в сухих руслах морщин. – Кому?..
– Хорошему… человеку. Девчонке… одной… А ты... такой бритый... такой...
Его глаза светились последними слезами, пьяные, прозрачные, хрустальные.
Дно души было видно.
И рыбы времени плыли, плыли.
– Ну, сегодня же праздник, Маруська...
Бутылка стояла, как хрустальная одинокая свеча, в лисьем, рыжем костре на снегу.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Остается только благодарить судьбу, что чудом сохранились, в сгоревшей мастерской, чтобы мы могли достойно оценить уровень культурного открытия и вписать новую страницу в историю русской живописи, слайды с работ без вести пропавшего художника, большого русского мастера, соединившего в своей живописи Восток и Запад, мистику и реализм, веру и безверие. Единственное, чего не было в его картинах, - это ненависти. Только – любовь».
...опустился перед ней на колени.
И она тоже встала на колени в снег.
Они стояли на коленях друг перед другом, около костра. Держали в ладонях лица друг друга.
По их лицам, рукам, ладоням текла горячая любовь и стекала в снег, в его горькую грязь и наледь, в его жемчуга, хрустали и алмазы.
«Умилостивися, Государь отецъ архимандритъ Сергий и великий келарь старецъ Галактионъ, еже о Христе зъ братиею, пожалуй насъ, сиротъ своихъ, не дайте насъ вконецъ разорить, заступите насъ, Государи, своею милостию, чтобъ намъ, сиротамъ вашимъ, не разоритца.
Государи! смилуйтеся! пожалуйте...»
Дело о исследовании грабежа возвращавшихся с Макарьевской ярмарки крестьян Заволжья в 1692 году от Рождества Христова
КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЯРМАРКИ